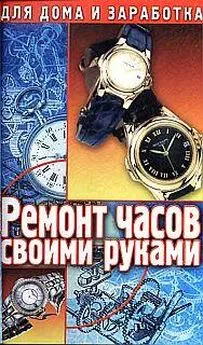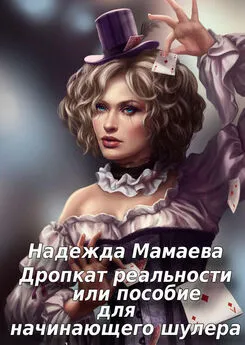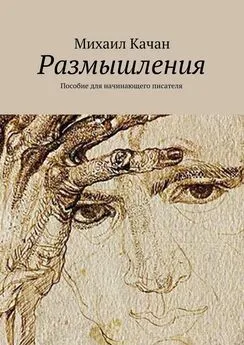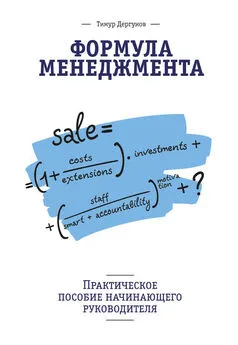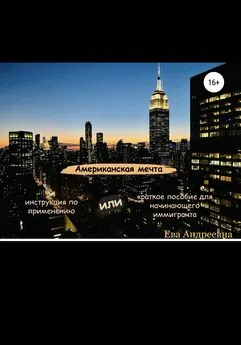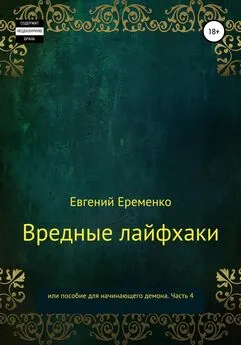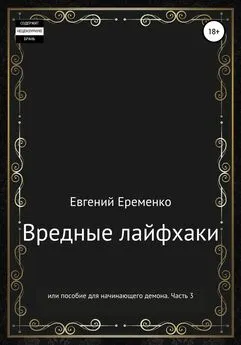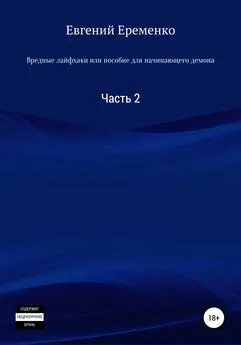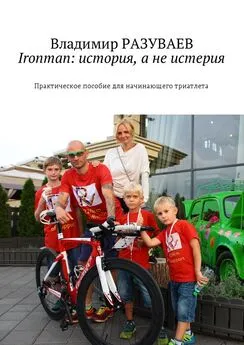Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
- Название:Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Закат
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра) краткое содержание
Это обследование было проведено более двадцати пяти лет назад. Автор попытался представить исследование о распространенности в населении психической патологии так, чтобы работа была в той или иной мере доступна всякому. Дело того стоит: психиатрия нужна каждому — особенно в тех ее разделах, которым эта книга посвящена в первую очередь: «пограничная», повседневная, почти житейская.
Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В обстановке врачебного визита шумен, звучно смеется, говорит излишне громко. Гостеприимен, дружелюбен — не спросив жену, приглашает врача обедать, чем она не очень довольна. Таким же экзальтированным, громогласным остается и в последующем, быстро начинает утомлять этим окружающих, которые все, что он говорит, уже не раз слышали. Об увлечении консервацией памятников старины говорит вначале полушутя, затем с возрастающей горячностью; рассказывает, как пришел к нему: через изучение истории архитектуры. Спрашивает, не интересуется ли врач тем же, готов вовлечь и его в эту деятельность, находит «точки соприкосновения» архитектуры с медициной: «Например, старые больницы, подумайте об этом и позвоните, если надумаете!» (С).
Набл.23. Девушка 18 лет, дочь описанного выше. Мать характеризуется общительной и энергичной — во всяком случае, была такой в молодости; в последние годы, после неудачной вакцинации от гриппа, страдает тяжелым аллергическим ринитом с частой и резкой общей слабостью и разбитостью; невротизирована домашней обстановкой, службой сына в армии, мужем, которого долго принимала каким он есть, но теперь, особенно после ссоры из-за прописки сына, изменила к нему отношение, тяготится его присутствием.
Девочка в раннем детстве была очень худой, тщедушной, нервной; много плакала, «заходилась» в плаче: несколько секунд раскачивалась, не реагируя на окружающее, не отвечала на обращенную к ней речь: эти явления продолжались до 5 лет. Говорить стала с 1 года и 8 месяцев — сразу чисто и правильно, «как по писаному». Оставалась и в школьные годы очень впечатлительна и обидчива, легко плакала. Среди малознакомых людей вела себя застенчиво, но с первых классов охотно декламировала стихи и вела самодеятельные концерты. В 12 лет — первая влюбленность, с того же времени заметные для матери периодические колебания настроения: то весела, то «чернее тучи». Все время полагала, что пойдет в театральное училище, но «в последний момент передумала»: ее «переубедил» молодой человек, с которым она в это (короткое) время встречалась, — поступила в том же году в архитектурный. С последних классов школы жалуется на нервность и утомляемость. Сентиментальна, плачет, слушая музыку, настроение очень изменчиво: то грубит матери, то особенно мягка с ней. В последнее время, по оценке матери, стала «рассудительнее», «о молодых людях говорит иной раз, как старуха». Учебой в институте довольна, от увлечения эстрадой осталась лишь любовь к стихам и декламации. Сейчас все больше вовлекается в работу кружка по защите архитектурных памятников: вначале делала это под влиянием отца, который постоянно следит за ее развитием и принимает в ее жизни самое деятельное участие, теперь — «более осознанно». Ездит с группой на замеры, «борются на местах» с вандализмом в отношении к разрушающимся зданиям. Много занимается, допоздна засиживается над учебниками, устает. Хозяйством не занимается, не убирает даже своей комнаты, но за своим видом следит и одевается со вкусом. Остается худа: от худобы «ничего не помогает», всегда был плохой аппетит. Одно время на основании жалоб подозревали ревмокардит, затем этот диагноз сняли.
Дружелюбная, открытая, с чертами детскости, с тонкими мимическими движениями выразительного лица, доверительная, доступная, порой с оттенком легкой беспомощности. Отвечает на вопросы врача без задержек, независимо от степени их интимности, сосредотачивается лишь над тем, чтобы ответить поточнее. Рассказывает о своей впечатлительности, постоянной готовности к экзальтации под воздействием произведений искусства: не может сдержать слез, слушая музыку или на спектакле. Любит старину, все древнее и старое: фольклор, памятники архитектурной старины, церкви. Считает себя «несовременной»: ей импонируют «серьезные», «мыслящие» молодые люди, «не выносит» модных танцев. Верит в приметы и талисманы, обходит стороной черных кошек, держит дома подкову. Допускает наличие телепатической связи: чувствует если не ее самое, то нечто с ней сходное. После какого-нибудь события иногда кажется, что его предчувствовала или предвидела. Обо всем этом говорит не категорически, не настоятельно, а скорее — добродушно, как бы констатирует этот факт среди прочих. С увлечением говорит об архитектуре — занятии, которому намерена посвятить жизнь, о театре же — как о пройденном этапе, без сожаления (С).
Оба случая психопатологически мягче предыдущих: они ближе к тому, что определено выше как «осложненная шизоидия» — те ее случаи, где личностные особенности лишены явных черт дефекта, но их как бы осложняет «привносимая» стертая позитивная симптоматика: аффективная, неврозоподобная, сверхценные идеи и т. д. Но и сходство обоих семейств тоже несомненно. Архитектор, в сравнении с художником, «менее кататоничен»: на нем не лежит столь явственный отпечаток машинальности, манекеноподобности, да и преуспевает он больше, чем его едва зарабатывающий на жизнь коллега, но и он патологически рассеян, и эта его черта описывается едва ли не в тех же выражениях, что у первого, и характеризуется прежде всего как практическая беспомощность. Он не «солдафон», но и он «задергал» дочь внушениями и придирками и тоже, парадоксальным образом, прямо по Кречмеру, «туп» и бесчувствен при высокой эстетической организации психики: эта черта его лишь более завуалирована и как бы прячется им за фасадом «интеллигентной деликатности». С годами его «одеревенелость», одержимость усиливаются: он ведь не всегда был таким монотонно экзальтированным гипоманиаком и утомительным говоруном, как в последние два десятилетия. Движение латентного процесса здесь угадывается, но оно неочевидно, слишком растянуто во времени, накладывается на естественные возрастные сдвиги и с ними смешивается.
Дочь архитектора также активнее, живее, естественнее, более аффективна и менее аутистична, чем дочь художника. Во второй семье вообще силен циклотимический компонент, как правило связанный с той или иной степенью инфантилизма, с детскостью и «непосредственностью» психики, смягчающими и «скрашивающими» шизоидную текстуру личности. Но и эта девушка хрупка, ранима, неустойчива, «дезэквилибрирована», как писали французские авторы прошлого века, «старомодна». Старомодность и тяготение к старине свойственны и отцу и дочери, и трудно оценить, в какой мере дочь индуцирована в этом отношении отцом и в какой — это ее «собственное» влечение, но, по-видимому, и эстетический сдвиг в прошлое, и культурная геронтофилия и некрофилия, любовь к живописным руинам действительно отвечают ее преобладающему настроению, мироощущению и мировоззрению.
У нее имеется также самый общий, начальный, эскизный набросок телепатических и мистических идей, проявляющихся не бредом и не стойкими бредоподобными идеями, но скорее — как некий «ореол», окружающий ее наподобие «ауры». Это не чувство, но «предчувствие», не идея, а «предыдея» или «предрассудок» — но и они не дань моде, а нечто ею самой угаданное, смутно прочувствованное и тайно пережитое. Поскольку это — тоже архаика, только из бытовой сферы, области примет, талисманов и наговоров, то эта столь современная, разумная и внешне привлекательная девушка оказывается как бы раздираема противоположно направленными импульсами и душевными противоречиями: ее в равной степени тянет к себе и реальная жизнь и существование в «потустороннем», «зазеркальном» измерении и отражении. У нее вообще психическая патология находится в большем движении и подвержена более заметным колебаниям во времени: в силу того, что она проходит критическую возрастную фазу. В 17–18 лет у нее была стертая депрессия, после которой она стала «сознательнее», рассудочнее, старообразнее в поведении, в высказываниях и оценках окружающих и одновременно — «мистичнее»; мать отмечает у нее с тех же пор непостоянство и слабость полового влечения. Ей, как и ее отцу, никто не поставит диагноза шизофрении, но эта болезнь, «проходя стороной», как бы покрывает их, хоть и бледной, но несмываемой тенью, остается жить в них неким тщедушным подобием оригинала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: