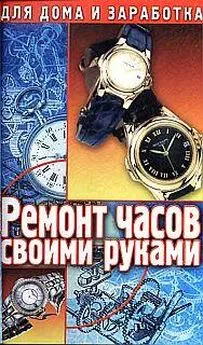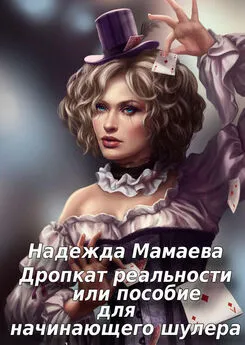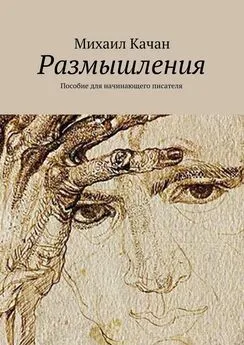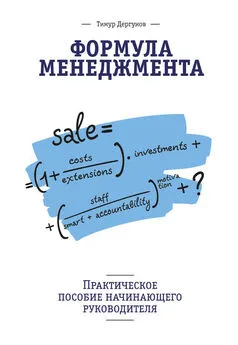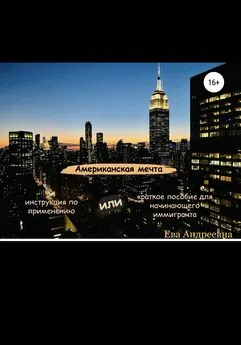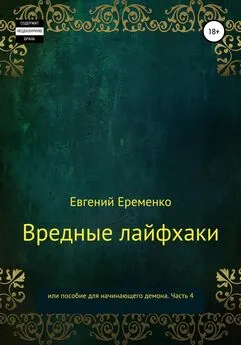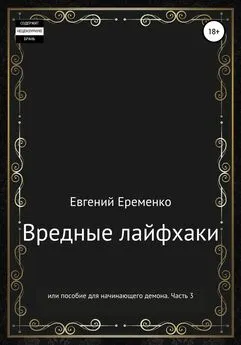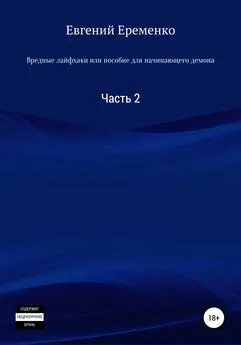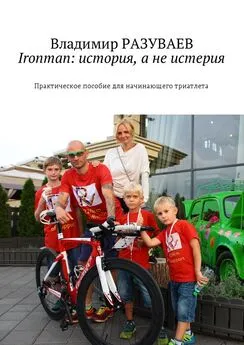Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
- Название:Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Закат
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра) краткое содержание
Это обследование было проведено более двадцати пяти лет назад. Автор попытался представить исследование о распространенности в населении психической патологии так, чтобы работа была в той или иной мере доступна всякому. Дело того стоит: психиатрия нужна каждому — особенно в тех ее разделах, которым эта книга посвящена в первую очередь: «пограничная», повседневная, почти житейская.
Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Девочка в детстве была флегматична на вид, «упряма», инертна, медленно привыкала к новой обстановке. До 5-го класса училась на «отлично», затем с каждым годом все хуже, что сама объясняет «ленью» и постоянным желанием делать не то, что задают, а что хочется: читала дополнительную литературу в ущерб урокам, занималась в литературном кружке. В старших классах характеризовалась «способной, но неорганизованной». Приходя с занятий, ложилась читать, никогда не убирала за собой, была безразлична к тому, как выглядит. В эти же годы стала «спорщицей», «скептиком», в ней «засел дух противоречия». На уроке литературы с высокомерным видом повздорила с преподавателем по поводу обсуждаемого произведения; помнит, что после двойки за сочинение испытала «дикую злобу» на этого учителя. Систематически пререкалась с родителями, особенно часто — с отцом, который не оставлял попыток «перевоспитать» ее, была с ним холодна, часто — враждебна.
В 16 лет, в десятом классе, в течение нескольких месяцев были страхи. Когда оставалась одна, появлялось чувство, что дома кто-то есть, «проверяла и перепроверяла» комнаты, заглядывала даже в шкафы, запиралась у себя на ключ. Уходя из дома, по нескольку раз проверяла, закрыта ли дверь. Эти явления то в большей, то в меньшей степени повторялись и в течение следующего года, когда училась на первом курсе института. Была в это время особенно раздражительна, «взвинчена», сильно уставала — что сама объясняет переутомлением в течение первого года учебы. В последние полгода — спокойнее и как-то безразличнее: одно время была сильная неудовлетворенность институтом, затем «перестала об этом думать». Посещает компанию, членов которой, по ее же словам, объединяет то, что они «ни во что не ставят родителей». Приглашает их к себе, не считаясь с желаниями отца и матери. «Принципиально» ничего не делает по хозяйству: недавно, например, привела в дом собаку, развлекаясь, проводит с ней много времени, но выгуливает ее та же мать.
Неоднократно назначала врачу по телефону день встречи, но дома ее в это время не оказывалось — застал ее случайно. Первая реакция на приход врача неприветливая: держалась свысока, продолжала «играть» с собакой, то есть как-то механически и неловко, с особого рода «порочным» удовольствием на лице «мяла» ее; потом, не оставляя этого занятия, начала рассказывать о себе — с неожиданной откровенностью и открытостью. Речь загромождена вводными фразами, словечками-паразитами («не могу так сказать», «трудно сказать», «в принципе», «по идее») — в такой степени, что бывает трудно понять, что она имеет в виду и что хочет сообщить; между тем стремится к максимальной точности выражений. Называет себя «флегматичной»: черта эта заключается в том, что она не любит живых проявлений восторга ни по какому поводу. О своих знакомых говорит довольно безразлично, о родителях — холодно, отдельно об отце — со скрытной, но заметной враждебностью. Говорит, что настроение ее изменчиво: то безысходная «хандра», то напротив — приподнятость, когда хочется сделать что-нибудь из ряда вон выходящее: например сдать сессию среди семестра — строит в воображении такие планы и картины их выполнения, затем тут же о них забывает, как если бы всерьез о них не думала. Движения ее неловкие, неравномерные: то замирают, то порывисты, стремительны — они постоянно останавливают на себе врачебное внимание (С).
Девушку, по отчетливости подспудного течения процесса и по наличию дефектоподобной симптоматики, можно отнести и к латентной шизофрении: основания для этого изложены в истории ее случая, и мы не будем здесь повторяться. У нее имеются даже симптомы редуцированного параноидного ряда: страхи, ощущения присутствия постороннего в квартире — и по этому критерию ее можно причислить и к вялотекущим шизофреническим случаям, но мы не станем делать и этого (возможно, в силу свойственного и нам тоже оппозиционизма, который, за неимением других объектов, поворачивается против себя же). Классификация вообще не самое интересное в психиатрии — в данном семейном случае действительно примечательно то, что здесь можно проследить развитие и становление некоторых характерных для этого круга патологии расстройств речи и мышления. Свойственные и никогда не изменяющие отцу резонность, ясность и весомость суждений, его врожденная любовь к математическим формулам у дочери, в результате большей разлаженности мыслительного процесса, оборачиваются «погоней за собственной тенью», за вечно ускользающей точностью фраз и формулировок, за истиной в ее последней инстанции и редакции. Речевой процесс при этом совершается не плавно, не непрерывно, а с перебоями и лакунами, заполняемыми словами-связками, словами-паразитами, лишенными смысловой и аффективной нагрузки, служащими своего рода «знаками шизофренического препинания». Здесь нет еще резонерского «окологоворения» или «мимоговорения», некорригируемой приблизительности монолога и необычного словоупотребления, свойственных носителям более явного шизофренического задатка (речь которых никогда не попадает в цель, но всегда — «в молоко», рядом с мишенью, всегда хоть чуть, но «невпопад», и они не замечают этого); речевые расстройства ее уровня осознаются говорящим, а попытки исправить их носят почти навязчивый характер — и никогда полностью не удаваясь. Разлад речи, ее «путаность», умозрительность и «книжность» здесь очевидны и согласуются со снижением успеваемости, трудностями сосредоточения, отсутствием волевой собранности и целенаправленности (она как бы дрейфует в море разговорной речи, с трудом ловит ветер в парус и все время теряет курс движения).
(Заметим попутно и в скобках, что мы описали уже 10 % выборки.) Другая пара — мать — дочь — отчасти схожая с предыдущей.
Набл.43. Женщина 59 лет, русская. Отец пьющий. Сестра «работящая, семейственная», помогала брату, своей семьи не имела. О себе самой говорит, что была в детстве спокойной, серьезной, влиятельной среди подруг, мечтала об учебе. Из-за домашних обстоятельств рано пошла работать, но мечты об образовании не оставила, «не торопилась» поэтому выйти замуж, отвергала выгодные брачные предложения, которые делались будто бы одно за другим. Собственные ее увлечения молодыми людьми были не— _ — продолжительны: много работала, «не вылезала из общественных нагрузок». Кончила курсы бухгалтеров и, если бы не война, непременно бы поступила в институт, хотя и без того занимала должность управляющего банком на периферии. В 39 лет вышла замуж за человека старше ее на 12 лет, латыша, шизотима по характеру (набл.104). Переехала в Москву, родила в 42 года дочь. В столице была рядовым бухгалтером, но по-прежнему вела общественную и партийную работу. С 55 лет на пенсии. В последние два года муж страдает сенильно-атеросклеротическим слабоумием. Постоянно сосредоточена на изменившейся ситуации в семье, более всего боится, что дочь не сможет учиться в дневном институте, как всегда предполагалось. Старается не выдавать своих чувств в присутствии дочери, но все время удручена, неотвязно думает об одном и том же.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: