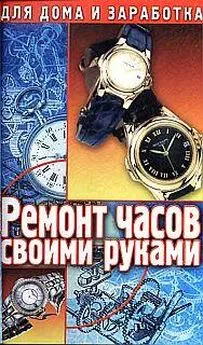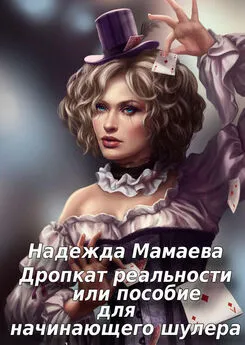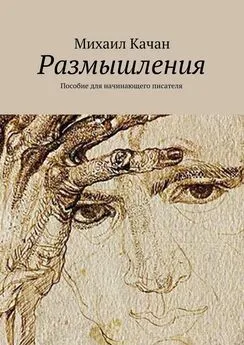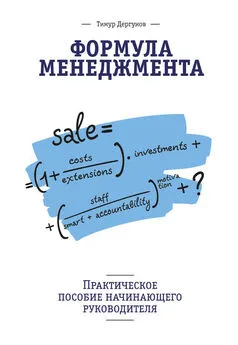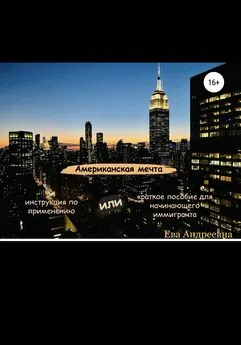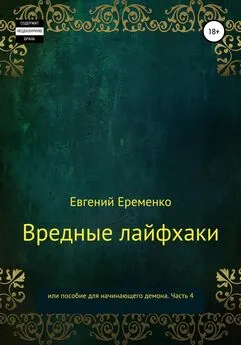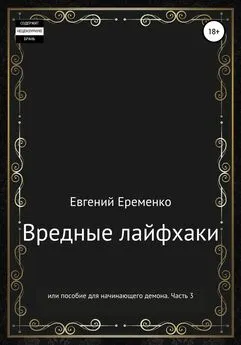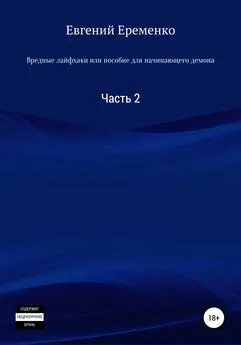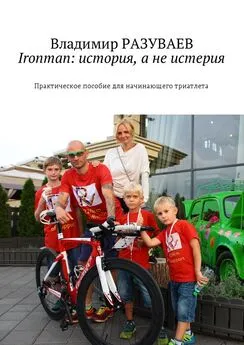Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
- Название:Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Закат
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра) краткое содержание
Это обследование было проведено более двадцати пяти лет назад. Автор попытался представить исследование о распространенности в населении психической патологии так, чтобы работа была в той или иной мере доступна всякому. Дело того стоит: психиатрия нужна каждому — особенно в тех ее разделах, которым эта книга посвящена в первую очередь: «пограничная», повседневная, почти житейская.
Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Набл.47. Мужчина 73 лет. Из евреев Житомирской области. Отец — мелкий лавочник, сверх меры набожный, плохой торговец; любил семью, но она влачила жалкое существование. Мать — просвещенная, «развитая», интересующаяся политикой, в быту — суетливая, вечно чем-то озабоченная, непрактичная. Сестра — профессиональная революционерка.
В детстве «озорник» (по его собственной нынешней оценке), возглавлял мальчишек на улице. Увлекался приключенческой литературой, организовывал игры по сюжетам прочитанных книг. В 12–13 лет переменился: стал «вдумчивее», сентиментальнее, мечтательнее, помнит, что очень любил наблюдать за восходом солнца. В 13 лет влюбился, писал стихи некой девушке, пока та не уехала из его города. В 13–14 лет «увлекся политикой», принял участие в работе кружка, который вела на дому сестра; «в 15 — прочел Эрфуртскую программу». Кончил 4 класса городского училища и сдал экстерном гимназический курс; подрабатывал уроками. Поступил в Киевский университет — вначале на естественно-научный, затем на медицинский факультет: медицина всегда привлекала его своей гуманностью, идеей оказания людям помощи. В годы революции учебу оставил, занялся активной политической деятельностью, был в подполье, выполнял опасные поручения. После окончания гражданской войны на ответственных постах в партии (член Московского комитета). Был энергичен, отличался организаторскими способностями. В 27–28 лет перестал, однако, удовлетворяться этой деятельностью («надоели разговоры»), почувствовал, что не может приспособиться к изменившимся отношениям в партийном аппарате. Вернулся в медвуз и в 31 год его кончил, женился на сокурснице. Половая жизнь с 22 лет: увлекался женщинами, но ненадолго. Образ жизни после женитьбы изменился мало: уехал один, без жены, главным врачом в санаторий в другом городе, много разъезжал по командировкам, работал одновременно в нескольких партийных комиссиях. Вернувшись в Москву, стал вести более оседлый образ жизни. В 1938 г. был арестован, находился в течение года в заключении, затем был освобожден. После случившегося целиком сосредоточился на научной работе, решил держаться подальше от власти, «не понимал, что происходит наверху». В течение 20 лет был физиотерапевтом в одной из ведущих московских клиник, защитил кандидатскую и подготовил докторскую диссертации. Продолжал заниматься общественной работой, но уже только в рамках своего учреждения. Отличался в работе основательностью и пунктуальностью — сторонник немецкой медицинской школы. Других к работе не понуждал, все при необходимости делал сам, старался ни от кого не зависеть. Наблюдая за окружающим, видел много отрицательных явлений: карьеризм, «выдвиженчество» — не осуждал их вслух, но сам жил, «как считал правильным»; был несколько обособленным и сосредоточенным на работе «идеалистом». В семье выполнял свою долю домашних нагрузок, но первой роли никогда не играл; был уступчив, нетребователен, лоялен в отношении близких: видел их недостатки, но задевал их редко и в осторожной форме.
В 63 года — динамическое нарушение мозгового кровообращения: с головными болями, головокружениями, потемнением в глазах. В последующем подобные состояния на фоне повышенного кровяного давления стали повторяться; в последние 8 лет на пенсии. Все эти годы ведет себя несообразно своим физическим возможностям: «весь день на ногах», «бегает по больным знакомым», лечит их, принципиально не берет за визиты денег. Несет и общественные «нагрузки»: член районной комиссии народного контроля, ревизует больницы на общественных началах. Постоянно читает медицинскую литературу. Хотя уступил врачам, запретившим ему напряженные умственные занятия, и отказался от докторской диссертации, тяготится тем, что не закончил ее, не допускает мысли, что она могла устареть за это время. До сих пор помогает деньгами брату и сестре, потому что их пенсия (как в свое время зарплата) меньше, чем у него; считает такую помощь естественным семейным долгом. Посещает их для того, чтобы передать деньги, но обставляет свой приход каждый раз так, будто наносит обычный родственный визит. В последние год-два перестает справляться с возложенными им на себя обязанностями: устает, не успевает сделать намеченного, плохо себя чувствует, но не может отказать ни одному из знакомых. Соглашается с женой, когда та говорит ему, что нужно отдыхать, но после первого звонка немедленно собирается и едет — иногда нарушая предписанный ему самому строгий постельный режим. У него диагностируют гипертоническую болезнь, мозговой и сердечный атеросклероз; часто — «плохая» ЭКГ.
Во время визита лежит после гипертонического криза. Седой, медлительный, с «исполненной благородства» позой и осанкой, с таким же мало меняющимся выражением лица. О себе и своей семье говорит объективно, на повествовательной ноте, с откровенностью, граничащей с бесстрастностью и позицией стороннего наблюдателя. Удручен своим состоянием, спрашивает совета у обследователя — делает это не как врач, а как рядовой больной. Согласен с тем, что ведет себя рискованно, без учета собственного здоровья, но тут же спрашивает у врача, можно ли ему заняться диссертацией; как бы оправдываясь, жалуется на то, что она, незаконченная, тяготит его. (В — по церебральному атеросклерозу.)
В этом случае шизоидия, на первый взгляд, вовсе лишена враждебного противостояния обществу и выражается лишь в определенном осторожном дистанцировании от него: он в этом отношении больше похож на тех, кого принято называть ригидными психопатами. Подобно ригидным личностям, ему присущи черты пунктуальности, педантического следования долгу и повседневным обязанностям, подчеркнутая благопристойность в облике и поведении. Но для ригидных субъектов, скованных в своих проявлениях конформностью, приличиями, узко понимаемыми общественными нормами, нехарактерна революционная деятельность — это обычно удел иных, более отчаянных личностей, движимых властными влечениями и овладевающими представлениями. Патология эта проглядывает и в нашем докторе, несмотря на его сугубую положительность и благонамеренность — он не зря назвал себя озорником: слово это имеет, как известно, целый веер значений — от невинного до грубо-ругательного.
Все революционеры, по-видимому, шизоэпилептоиды: для революции одной шизоидии или эпилептоидии недостаточно — обе патологии являются ее источниками и составными частями (пользуясь формулировками другого известного классика). Попробуем выделить шизоидное ядро этой личности. Боюсь, что в результате такой «психиатрической диссекции» гуманизм этого человека, его врачебная активность в настоящем, равно как и революционная — в прошлом, обнаружат в своем «ядре» некий общий для шизоидов дефект общения. Возможно, наш доктор по природе своей не слишком нуждается в живом человеческом общении, в бездумном совместном времяпрепровождении, не способен к нему и предпочитает держаться от людей на расстоянии — в роли их спасителя, благодетеля, помощника, врачевателя. В этих покровительственных ролях и масках как бы растворяются и скрываются от других собственные душевные изъяны: некая бесчувственная «константа поведения», негибкость, неспособность к беспечному, «инстинктивному», непосредственному сожительству с людьми, к «броуновскому движению» человеческого муравейника. Благодетельствуя, он возмещает тем «недостатки» собственной инстинктивной сферы, именуемой в просторечии душою, компенсирует ее неполноту, находит эрзац, бледную замену простому, но недоступному ему сожительству с людьми: естественному, живому, не нуждающемуся в предметном и символическом опосредовании. Известно, что коммуникативный дефект шизоидов приводит к замещению, подмене естественных отношений между людьми формализованными, искусственными, схематическими — отсюда и денежные подачки, и партийные собрания из недавнего прошлого и многое другое. Революция для таких лиц — это, с одной стороны, продолжение подростковых игр по сюжетам прочитанных книг, с другой — глобальное замещение живых человеческих связей единой универсальной схемой, обнимающей весь мир, подчиняющей его своей одномерной логике, исключающей случайности, стихийность — все, что чревато неожиданностями и способно нарушить покой все более схематизирующейся и отстраняющейся от реальности шизоидной психики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: