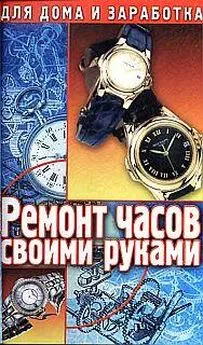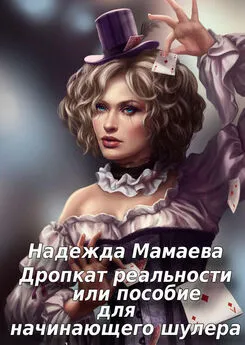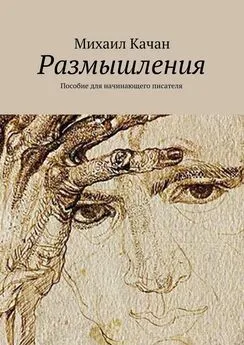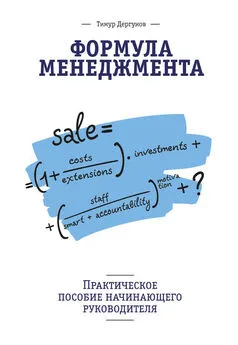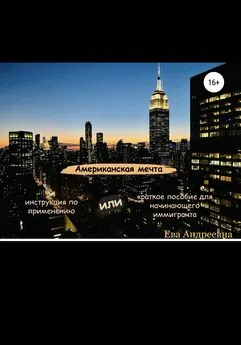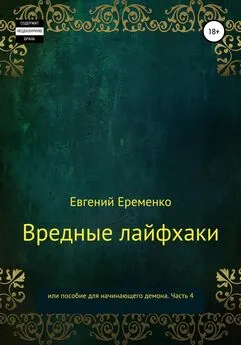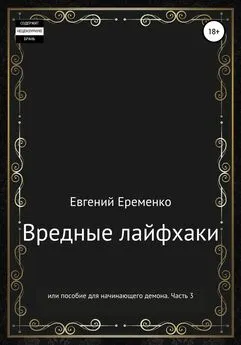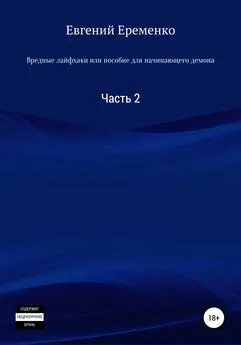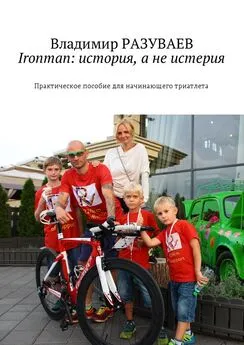Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
- Название:Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Закат
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра) краткое содержание
Это обследование было проведено более двадцати пяти лет назад. Автор попытался представить исследование о распространенности в населении психической патологии так, чтобы работа была в той или иной мере доступна всякому. Дело того стоит: психиатрия нужна каждому — особенно в тех ее разделах, которым эта книга посвящена в первую очередь: «пограничная», повседневная, почти житейская.
Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Неприметный, словно ожидающий чего-то с «посторонним» видом. Сложен правильно, движения естественные, с изящной, юношеской, едва ли не детской грацией, но очень скупые: подолгу и «терпеливо» сидит в одной позе, не меняя положения. Молча подчиняется жене, когда та бесцеремонно велит ему выйти из комнаты, пока она не поговорит с врачом. Слышно, как он играет в это время в мяч с сыном в коридоре: голос его ровный, монотонный, все время одной силы, тембра и интонации. О себе рассказывает с откровенностью и доверчивостью, необычными для мужчин его возраста. В беседе легко обнаруживается подавленность, голос часто дрожит. Говорит негромко, вполголоса. С его слов, после выхода из мест заключения в 23 года почувствовал, что переменился, сделался более замкнут, не стало близких друзей, начало тянуть домой, в семейную обстановку, стал тяготиться одиночеством. Несмотря на внешнее подчинение жене, говорит о ней без чувства зависимости, объективно и с долей отчужденности. Свое пьянство признает и его не преуменьшает. Пьет, по его словам, потому, что когда рабочие на заводе идут вместе выпивать, особенно остро, физически, чувствует свое одиночество: когда выпивает в компании, пусть случайной, но «разогретой» алкоголем и оживленной, это чувство на какое-то время проходит. Обращался к наркологу, но тот сказал, что он «никакой не алкоголик». Раньше переносил спиртное хорошо — после травмы начал быстро пьянеть, С тех же пор — неустойчивость настроения: оно колеблется в течение дня по незначительным поводам. Помимо футбола любит природу, птиц, держит дома канареек, ходит по грибы. В течение последних двух недель не пьет: жена «предупредила в последний раз», но к вину все время тянет (С).
Особенностью данного случая, если не считать привходящих обстоятельств: посттравматического синдрома, алкоголизма и роли, которую могло сыграть лагерное заключение, можно считать преимущественно аффективный характер страдания — без заметных расстройств мышления и моторики шизофренического круга, но с заметным ювенилизмом, который чувствуется не только в том сверхценном значении, которое этот человек придает дружбе типа подростковой или коллективным играм, но и в самом его физическом облике. Он близок к конституционально-депрессивным больным, но машинальность, роботоподобность его повседневной жизни, его пассивная подчиняемость внешним обстоятельствам, наконец — бесконечный, каждый раз одинаково повторяемый им монотонный стук в дверь в состояниях опьянения: все это в совокупности придает специфически отстраненную шизоидную окраску его многолетней меланхолии.
Далее в чем-то сходный, хотя значительно более благоприятный (внешне во всяком случае) случай из той же возрастной группы: на этот раз без явной патологии аффекта и влечений, без пьянства — выглядящий более как шизоидный дрейф по жизни и пассивное подчинение и следование обстоятельствам, чем как собственно депрессия.
Набл.50. Мужчина 33 лет. Еврей из Бобруйска. Родителей характеризует как «спокойных, уравновешенных». Сам с детства флегматичен и несколько медлителен, хотя увлекался футболом. Любил также шахматы, математику, фотографию. Товарищей было немного, но «один никогда не был». Учился всегда ровно. После школы поступил в институт киноинженеров: интересовался «электроникой, физикой и техническими проблемами кино». После института попал на административную работу, ушел затем в научно-исследовательский институт, готовит диссертацию по электронике. Интерес к девушкам с 18 лет, половая жизнь с 23, женитьба в 28. Семейная жизнь вскоре начала утомлять, «затягивать» — иногда не сдерживается, кричит на ребенка, но осознает свой долг по отношению к близким и из семьи не уходит: собственно, некуда и не к кому. Домашние называют его «замкнутым», он долго не мог привыкнуть к семье жены, за первые два года жизни не сказал, кажется, ни слова, теперь говорит только чуть больше, самое необходимое. Домосед, никуда не ходит, интересуется одной работой. «С ленцой»-, ничего сам не делает, пока не попросят, но просьбы выполняет. Очень любит телевизор, включает его как только приходит домой, смотрит все передачи без разбора.
Сосредоточенного вида, смотрит мимо врача. Отвечает достаточно полно, но сам беседы не поддерживает, не задает вопросов, не поинтересовался, чем врач занимается. Выглядит скучноватым, терпеливым, «нейтральным». Недовольства жизнью не высказывает — пожаловался лишь на отсутствие свободного времени (С).
Здесь в глаза бросается прежде всего утрированная речевая инертность, доходящая до степени едва ли не полной немоты — среди формально вполне благополучного существования. И здесь, во всяком случае в домашних условиях, речь и поступки существуют лишь в виде ответных, спровоцированных извне реакций и реплик: нет сколько-нибудь заметной самостоятельно инициируемой и планируемой деятельности — если не считать обязательного включения телевизора. Он тоже из тех, кто хорошо себя чувствует лишь на работе, в регламентированных условиях трудового социума, в который они включаются подобно шестеренкам передаточных механизмов и даже испытывают при этом некоторое чувство душевного комфорта; дом же, с его сложными взаимоотношениями, с меняющимися день ото дня и непредсказуемыми требованиями быта, семьи и т. д., для них более чем обременителен: тоскует он не по свободному времени, а по одиночеству, в котором такие лица чувствуют себя всего легче: телевизор в таких случаях — достаточная замена живому человеческому общению.
В выборке было также 5 лиц, которые первоначально, на типологическом этапе обработки данных, были отнесены к «подозрительным» шизоидам. Это были женщины, которые в условиях подворных обходов обращали на себя внимание повышенной настороженностью: они видели что-то «неладное» в посещении врача, вели себя с особого рода предусмотрительностью, отличались малой доступностью. Бдительность и настороженность встречались и среди «здоровых» лиц, но, в отличие от них, «подозрительные шизоиды» не поддавались разубеждениям, относились к ним как к попытке обмануть их: их сомнения скорее упрочивались, чем рассеивались при попытках разъяснить положение и продолжить собеседование. В анамнезе в одном случае были «паранойяльные реакции», в другом — предубежденное отношение к врачам, лечившим душевнобольного сына. Эти лица отличались малой общительностью, узким кругом знакомств, трое из них выглядели скрыто депрессивными. У трех женщин были «собственные реакции подозрительности» на приход врача, у двух — индуцированные родственниками.
Набл.51. Женщина 70 лет. Из семьи служащего. Характеризует родителей как «спокойных, веселых». О себе говорит, что была «смышленой, рассудительной»: из тех, «кто найдет выход из любого положения». В школе любила пение, рисование, музыку. Со старших классов особый интерес к «медицине, психологии и мозговой деятельности»: читала Павлова и Бехтерева. В годы революции и гражданской войны жила с родителями, в 24 года вышла замуж за офицера. Проучилась два года на медицинском факультете, затем оставила учебу, что сама связывает с рождением дочери и возникшими бытовыми трудностями. В течение 7–8 лет не работала, не тяготилась этим. С 35 лет работает медсестрой, почти все время — старшей сестрой одной из институтских клиник. Быстро выделилась среди остального персонала начитанностью и развитостью, была уверена в себе, влиятельна в коллективе. К медсестрам относилась, по ее словам, ровно и заботливо, но держалась в отдалении от них; с врачами вела себя на равных, «не чувствовала себя ниже их», но не сближалась и с ними тоже, вела себя осмотрительно, сообразно обстоятельствам. Всегда много читала, иногда — ночи напролет, увлекалась театром. Хозяйственными делами дома занималась «без большого желания». В последние годы стала молчаливее прежнего: как-то «загадочно» безмолвствует, не принимает участия ни в семейных обсуждениях, ни в ссорах. Большую часть дня читает лежа, за собой не следит, весь день в халате. Физически достаточно здорова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: