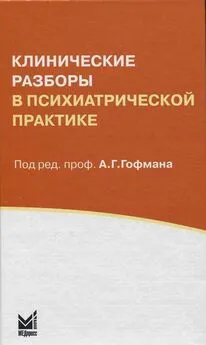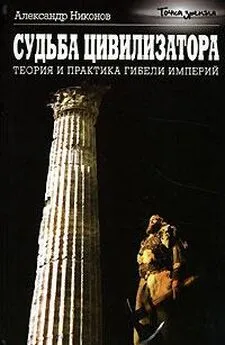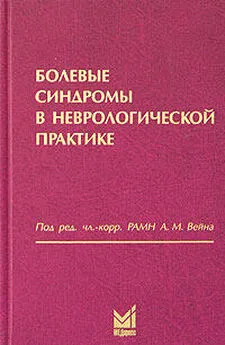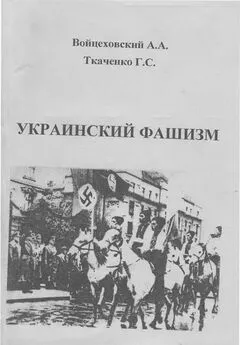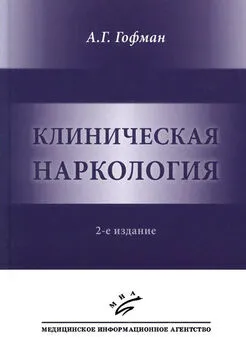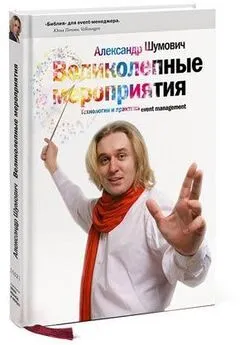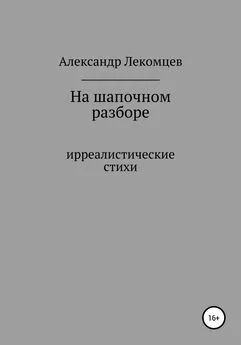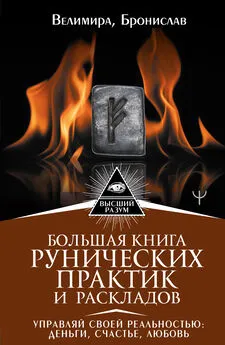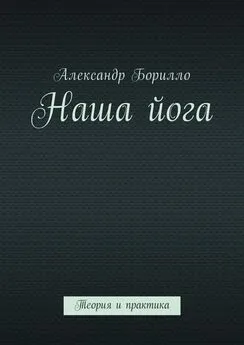Александр Гофман - Клинические разборы в психиатрической практике
- Название:Клинические разборы в психиатрической практике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:МЕДпресс-информ
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:5-98322-568-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Гофман - Клинические разборы в психиатрической практике краткое содержание
Основой для создания настоящей книги послужили материалы открытых клинических разборов, возобновленных в июне 1996 г. под эгидой «Независимой психиатрической ассоциации России». Они регулярно проводятся на совместных семинарах психиатров, врачей других специальностей и клинических психологов, часто в присутствии студентов медицинских вузов и психологических факультетов. Представленные в настоящем издании материалы позволяют читателю окунуться в атмосферу клинического разбора, как бы присутствовать на семинаре и участвовать в осмотре больного и дискуссии.
Для психиатров, врачей других специальностей, психотерапевтов и клинических психологов.
Клинические разборы в психиатрической практике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мнение профессора Б. Н. Пивеня (Барнаул), принимающего участие в заочной дискуссии.
1. Уже само название «Психопатия или развитие личности?» отражает направленность проводившегося разбора. Выступления большинства его участников сводились во многом к тому, чтобы определить, какое из обозначенных состояний имеется у больной М.
В своем заключении А. Ю. Магалиф согласился с обоснованностью точек зрения всех выступающих, сказав, что состояние М. «…можно было трактовать и как нажитую психопатию. Можно говорить и о невротическом развитии личности, можно отнести ее состояние к астено-депрессивному». При этом он отметил, что у больной был и депрессивный синдром.
Лишь в заключении врача-докладчика С. В. Измаиловой диагностический акцент был сделан на депрессию («рекуррентное депрессивное расстройство»). Между тем, по моему мнению, именно депрессивное состояние явилось основной причиной, из-за которой М. в 2001 г. вновь оказалась в поле зрения психиатров и психотерапевтов.
Это была глубокая, достигавшая в какой-то момент психотического уровня, депрессия, о чем свидетельствуют приведенные анамнестические сведения («настроение оставалось сниженным, была безучастной к своим обязанностям, перестала что-либо делать дома, ничего не радовало») и описание психического статуса М. («сидит на приеме в однообразной позе с низко опущенной головой, эмоционально невыразительна. Лицо грустное. Отвечает на вопросы после значительной паузы, с трудом формулирует фразы. Критика к болезни отсутствует»).
2. Как известно, психопатия и патологическое развитие личности характеризуются перманентностью, постоянством своих проявлений, а также выраженными стойкими затруднениями адаптации. Но у разбираемой больной подобных признаков не выявлялось, по крайней мере, их наличие не было убедительно аргументировано выступавшими. Больше того, как следует из ответов М. и пояснений врача-докладчика, в состоянии больной имелись длительные, многолетние периоды относительного благополучия.
В то же время наблюдались и выраженные дезадаптационные состояния, имевшие болезненный характер, в связи с которыми больная была вынуждена обращаться за медицинской помощью. Но они возникали периодично и с большим разрывом — первый раз в 1990–1995 гг. и второй раз — в 2001 г., причем это были совершенно разные состояния и обусловлены они были совершенно разными причинами.
Первый раз у М., оказавшейся в чрезвычайно трудной ситуации, развилось состояние, которое можно рассматривать в рамках либо неврастении, либо депрессии непсихотического уровня. Причем второй вариант в диагностическом плане, с учетом катамнестических данных (повторное возникновение депрессии в 2001 г.), представляется более предпочтительным. Но это была не декомпенсация каких-то личностных особенностей. Наверное, у немалой части молодых женщин в подобных обстоятельствах: рождение ребенка в довольно юном возрасте, сложные по многим позициям взаимоотношения с мужем, физическое переутомление в связи с уходом за ребенком — также могли бы развиться аналогичные патологические явления.
Болезненное состояние, возникшее у М. в 2001 г., из-за которого она поступила в психиатрическую больницу, вряд ли следует связывать с объективными трудностями данного периода ее жизни. Это были не неопределенные жизненные негативные обстоятельства, а субъективная оценка больной в общем-то обычных житейских моментов как непреодолимых. А причиной такой оценки было ее депрессивное состояние. Именно из-за него с трудом возила дочь в школу, сильно уставала, а затем вообще «перестала справляться с домашними обязанностями», «не следила за собой и ребенком».
3. Я уже отмечал, что врач-докладчик С. В. Измаилова расценила болезненное состояние М. как «рекуррентное депрессивное расстройство», а А. Ю. Магалиф диагностировал у М. ряд патологических форм, среди которых назвал и депрессию. Причем депрессивное состояние он характеризовал и как астено-депрессивное, и как эндореактивное, и как депрессию истощения Вайтбрехта. При этом два последних термина, как представляется, являются синонимами и отражают один из вариантов депрессии — эндореактивную дистимию, описанную Вайтбрехтом. По моему мнению, у больной М. в 2001 г. как раз и наблюдалось данное состояние. И в этой части я согласен с оценкой А. Ю. Магалифа.
4. Эндореактивная дистимия по Вайтбрехту является полиэтиологическим состоянием. В ее генезе определенную роль играли эндогенные механизмы, «обеспечивающие» особую готовность к развитию депрессивных расстройств, а также выявляющие эту готовность такие факторы, как соматическая патология, переутомление, психогенные моменты. С этих позиций можно достаточно легко объяснить развитие у больной двух затяжных болезненных периодов, о которых упоминалось выше. Правда, если в первом случае выявляющие эндогенную готовность внешние воздействия были налицо (сложные психологические обстоятельства, физическое переутомление), то во втором случае они не были столь очевидными. Во всяком случае, никто из выступавших их не отметил.
Но такого рода факторы были. По крайней мере, можно с достаточной долей уверенности говорить, что у М. имелось органическое поражение головного мозга. Его признаки фиксированы в заключении патопсихолога: «Исследование выявляет… нерезко выраженное интеллектуально-мнестическое снижение по органическому типу»… Но как-то так получалось, что никто из участников разбора не обратил на эти сведения внимания. А с их учетом становится понятным, отчего больная уставала при в общем-то обычных житейских нагрузках и что спровоцировало развитие депрессии, о которой говорилось выше.
5. Частное замечание. Анализируя состояние больной М., А. Ю. Магалиф говорит: «Не удалось выявить один из главных депрессивных признаков — ангедонию». Но если следовать данному термину, как характеризующему потерю возможности испытывать чувство приятного, а если проще — радоваться жизни во всех ее проявлениях, то как понимать эмоции М., описанные врачом-докладчиком, что цитировалось выше: «… ничто не радовало… появилась сильная апатия… не следила за собой и ребенком» — и соотносить их с ангедонией?
6. Общее замечание. Органические заболевания головного мозга являются весьма распространенной патологией, при этом они часто сочетаются с другими формами психической патологии, но на них почему-то редко обращается внимание или они вообще не принимаются в расчет, иллюстрацией чему служит данный разбор, в процессе которого не было сделано попыток развить диагностический поиск в направлении, намеченном патопсихологом: клиническим и параклиническими методами подтвердить либо исключить органическую мозговую патологию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: