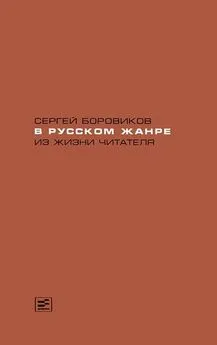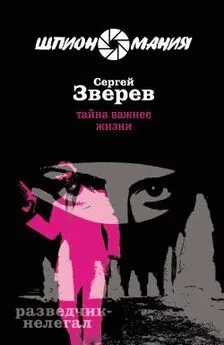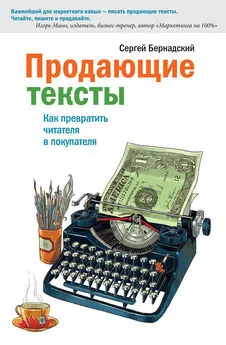Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя
- Название:В русском жанре. Из жизни читателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2015
- ISBN:978-5-9691-0852-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя краткое содержание
В русском жанре. Из жизни читателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Пенсионер Лаевский обратился в милицию с письменной жалобой на электромонтёра Католикова… <���…> Католиков дважды угрожал ему убийством, заявив в первый раз, что он “переделает ему голову на рукомойник”, а затем угрожал ему «помочь не дожить до первого полёта на Луну». Кроме того, Католиков угрожал соблазнить племянницу Лаевского, за которой ухаживает, заявляя, что ей пора иметь детей, которые должны быть похожи не на дядю, а на него, Католикова».
«В районе было совершено изнасилование. Подозрение пало на Ситника, который был арестован и под конвоем доставлен к следователю Ларину для допроса. Ситник отрицал своё участие в преступлении. Тогда Ларин обратился к милиционеру со словами: “Выведите его и расстреляйте там же, где вчера расстреливали”, Ситник испугался и дал следователю показания о том, что изнасилование совершил он».
Читая это, хочется быть Гашеком.
Был у меня дядя по матери, ленинградский художник Франц Заборовский, в свою очередь по матери, моей бабушке, поляк. Был Франц человеком очень честным, вспыльчивым, вздорным, нетерпеливым и много пьющим.
Он хорошо начинал. После Академии художеств, которую он окончил вскоре после войны, Франц входил в силу как художник-монументалист, расписывал такие престижные здания, как один из павильонов ВДНХ («Рыболовство»), помпезный железнодорожный вокзал в восстанавливающемся Сталинграде и другие. Его главною темой были море, Волга, моряки, рыбаки, лодки, суда. Он и сам был, что называется, заядлым рыбаком, но, увы, его сверхживой темперамент не позволял ему даже и здесь добиться хороших результатов. При отсутствии клёва он тут же бросал место, переходил на другое, третье и т. д.
По его нраву и пристрастию к напиткам с ним вечно приключались неприятные истории.
То, возвращаясь домой, естественно подшофе, Франц не желает обходить группу молодёжи, стоящую на углу проспектов по-тогдашнему Грибоедова и Майорова, то есть Екатерининского и Вознесенского. Тротуары там узенькие, и большому грузному Францу пройти тесно. Он пихает молодёжь и спрашивает: «Зачем вы, стиляги, здесь торчите?» Рассказ об этом и других происшествиях он заканчивал стереотипно: «Очнулся я, конечно, в больнице».
То в знаменитой «Щели» — крохотной распивочной в гостинице «Астория», он за выпивкой чуть не затеет драку с толстеньким дядькой, обвинив его в полном непонимании музыки, пока кто-то не сообщит ему: «Это Василий Павлович Соловьёв-Седой».
Я и сам бывал свидетелем его задора.
Он приехал в Саратов. После обеда мы отправились на «трамвайчике» на Зелёный. «Трамвайчиками» назывались тогда почти исчезнувшие сейчас «Москвичи» с наклонной надстройкой на носу, на которой блестела золотом пятиконечная латунная звезда. По возвращении в Саратов у трапа стали вторично проверять билеты, которые Франц успел выбросить за борт. Рассвирепев, он заорал проверяющей женщине-матросу: «В Ленинграде такого нет, почему у вас тут такая дешёвка?» — «Это я дешёвка?!» — на каковой крик подскочили коллеги, и Франца потащили в милицейский пикет.
Другой раз, уже в Ленинграде, он повёл меня в Русский музей, на выставку художников ЛОСХА (Ленинградское отделение Союза художников), где были и его работы. Утро было зимнее, тёмное. Едва мы вошли в зал, раздался крик Франца, обвинявшего служительницу в том, что свет зажжён так, что его полотна остались в тени. Мне он тут же объяснил: «Это Евсей постарался», и, хромая (после встречи со стилягами он ходил с палочкой), кинулся к распределительному щитку, в котором принялся дёргать рубильники.
Евсей М. — бывший ближайший друг и однокашник Франца по Академии художеств, двигавшийся, в отличие от дяди, не вниз, а вверх, ставший академиком, лауреатом, народным художником. За картину «Победа» — застолье на балконе 9 мая — он получил Ленинскую премию. Франц же утверждал, что Евсей украл у него сюжет этой картины, и непременно показывал собственные этюды на эту тему заходящим гостям.
Этюды — сказано не случайно. Франц редко доводил заготовки до готового полотна. То маленькая дочь шумела, то вчера поругался на отборочной комиссии, то утро промозглое, но дело, как правило, кончалось рестораном, если были деньги, или, на худой конец, «маленькой», которые Франц почему-то предпочитал поллитрам (что, впрочем, не редкость в нашем пьющем отечестве).
С посещением ленинградских музеев у меня и до этого сохранялись в связи с Францем неприятные воспоминания. Будучи с родителями десятилетним мальчиком впервые в Ленинграде, я попал и в Эрмитаж. Руководил нами, естественно, Франц. Набредя в одном из нижних залов на лошадь в кольчуге и экспозицию старинного оружия, я застыл на месте как заворожённый. Но Франц схватил меня за рукав и со словами: «Рембрандта надо смотреть, а не это говно» — потащил вон. Я сопротивлялся, и мама за меня вступилась: «Франя — ему это интереснее, он же мальчик». На что её брат закричал: «А я тысячу раз разглядывал пятки блудного сына и в тысячу первый пойду!».
С друзьями, и не только с Евсеем, Франц, разумеется, постоянно и жестоко ссорился. На моей памяти это было с такими близкими его собутыльниками, как поэт Михаил Дудин и прозаик Виктор Конецкий. Последней рухнула многолетняя дружба со скульптором Александром Кибальниковым, продолжавшаяся ещё с военных саратовских лет. Как-то Борода, как звали Кибальникова друзья, будучи в Питере, зашёл к Францу в мастерскую, где хозяин стал, как обычно, жаловаться лауреату и академику на тяготы жизни. «Да, — посочувствовал Александр Павлович, — друзья у тебя говно». — «Так ведь мой первый друг это ты!» — закричал Франц, после чего они не встречались.
Нетерпение моего дяди достигало таких пределов, что вредило ему буквально во всём.
Здесь не место объяснять почему, — история долгая, но Франц, как и моя мать, и ещё одна сестра, и три брата, родился в Австралии, в Мельбурне, в семье политэмигранта. Вообразить, чем это обернулось для семьи деда, который в 1926 году вернулся на Родину, чтобы помогать строительству социализма — думаю, не стоит. Моего отца и мужа моей тётки исключили из партии, двух дядей расстреляли, третий отсидел семь лет (он-то, правда, за дело: пытался с товарищем реэмигрантом бежать из Армении в Турцию через реку Араке), и, наконец, сам Франц посидел недолго во время учёбы в Сталинградском художественном училище за обнаруженную там карикатуру на Сталина, хотя его авторства, от которого он всегда отпирался, так и не доказали.
Так вот, Франц единственный из всей семьи осуществил общую мечту братьев и сестёр — побывать на родине. Это было в конце 60-х, кажется в 1968-м. Тогда никаких разумеется туристских поездок на Пятый континент не существовало. Сам же Франц с неуживчивостью, биографией, которую см. выше, беспартийностью и злым языком, за границей не бывал ни разу. Но в те годы он по командировке ЛОСХа стал постоянным художником Адмиралтейской судоверфи, завёл знакомства в судоходстве и, как бы то ни было, отправился наконец для отображения труда советских моряков к берегам Австралии с визой на шесть месяцев!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: