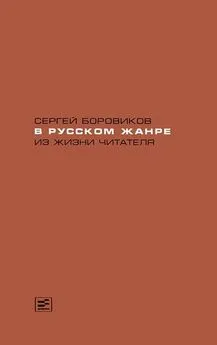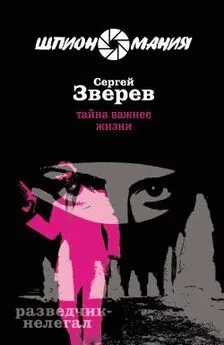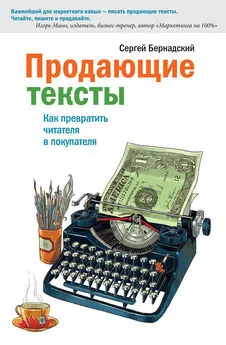Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя
- Название:В русском жанре. Из жизни читателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2015
- ISBN:978-5-9691-0852-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя краткое содержание
В русском жанре. Из жизни читателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Оркестр торжественно расположился в актовом зале с гоношённым, но натёртым паркетом. Он был пуст. Мы, радостной толпою идиотов, отчётливо сознавая собственный протестантизм, нонконформизм и прочие слова, каковых мы не знали, но всё, что против, чрезвычайно нас соблазняло, стояли в тускло освещённом коридоре первого этажа, напротив с одной стороны кабинета биологии, а с другой мужского туалета, вокруг Сашки Лебедева по прозвищу Сандро, и под его гитару упоённо орали Окуджаву. Терпеливые учителя подходили к нам и, послушав с натянутой улыбкой про Ваньку Морозова или про Наденьку в спецовочке, приглашали нас в зал. Кажется, это безобразие продолжалось довольно долго, мы отходили выпивать (в физический кабинет, где было где спрятать бутылки), поднимались в зал, чтобы вернуться к туалету и со смехом рассказать другим, остававшимся на месте идиотам, что там танцуют шерочка с машерочкой — преподавательница биологии со старшей пионервожатой. Все родимые пятна оттепели, младшими детьми которой мы успели сделаться, были налицо.
Мы, конечно, не рассуждали, но ощущали, что Окуджава и военный оркестр — антиподы. То был 1965 год. А с какого года репертуар военных труб не обходится без исполняемой как марш — и какой марш! — песни Булата Шалвовича из кинофильма «Белорусский вокзал»?
В РУССКОМ ЖАНРЕ — 23
11 июня 1973 года я был на дневном спектакле модного тогда Молодёжного театра-студии на Красной Пресне под руководством Владимира С-ва. Шла инсценировка романа Василия Шукшина «Я пришёл дать вам волю…». Труппа состояла из очень юных актёров, которых режиссёр, бывший актёр Таганки, дрессировал — такое создавалось впечатление (вскоре случился скандал с обнаружением случаев специфической дрессуры им юных актрис). Днём раньше я смотрел там «Ромео и Джульетту», актёры врывались на сцену, всю в деревянных конструкциях, трапециях, лесах, и делалось страшно, когда всамделишные кинжалы враждующих кланов сверкали и крутились в воздухе, вблизи лиц и вонзались, дрожа, в окружающее дерево. Они буйствовали со всей молодой энергией — видимо, темп и темперамент были главной целью постановщика.
В спектакле по роману Шукшина… Но сперва несколько слов о моём к роману отношении. Это просто слабый роман. Ничуть не лучше казённых «Любавиных». Шукшин продолжает оставаться для меня одним из значительных художников своего времени, и его лучшие рассказы, его сатиры первосортны. Но если революционное полотно «Любавины» никто, вероятно, включая и автора, всерьёз не воспринимал, то роман про Степана Разина воздвигался чуть ли не высшим достижением писателя. Между тем та же бескровность, что и в «Любавиных», поразительная для мускулистого почерка писателя аморфность, скукота, полное отсутствие едкого шукшинского юмора. «В последнее время, когда восстание начало принимать — неожиданно, может быть, для него самого — небывалый размах, в действиях Степана обнаружилась одержимость… неистребимая воля его, как ураган, подхватила и его самого, и влекла, и бросала в стороны, и опять увлекала вперёд». Любовь писателя к разбойнику не спасла. Но — к спектаклю.
Опять сумрачное дерево, обилие чудовищно огромных икон, в окладах чуть не бревенчатых по толщине, в них уродливо угрюмые, словно у крестьян Бориса Григорьева, лики. Иконы висели на верёвках, подымались под колосники и опускались к сцене, угрожающе раскачиваясь. Исполнитель роли Разина, красивый, буйный молодой парень, неистовствовал, бегал, кричал, дрался. Настал черёд сцене, в которой Степан в Астрахани «в церквах божьих образы окладные порубил». Актёр постарался на славу, гоняясь по сцене с шашкой за иконами, которые, получив своё, взвивались кверху от Степановых гонений. Наконец на пустой сцене Разин начал говорить монолог. И тут сверху, скособочившись в полёте, сорвался самый большой образ, и деревянным углом угодил на темя, с которого по лицу актёра тут же заструилась кровь. Зал охнул, стало не по себе, и я подумал: ну, и штучки режиссёрские таганковские, аж дух захватило. Но штучки оказались вовсе не таганковские, поработал совсем другой режиссёр — лицо актёра стремительно, до зелени, бледнело, залитое кровью, он шатался, через силу произнося слова роли, сдерживаясь, но поспешили к нему на помощь товарищи… Дали занавес. Зал молчал. Самое удивительное, что действие продолжилось, и актёр с перевязанной головою доиграл.
Страшное дело — стенографический отчёт Второго съезда советских писателей. Куда посильнее отчёта Первого съезда, где даже славословия Сталину не носили характера всеобъемлющей принципиальной серости Второго, когда выступающие словно бы не были авторами «Хулио Хуренито» (может, наиболее из всех разительная эволюция с его автором: Эренбург Второго съезда незнаком с Эренбургом Первого), «Тихого Дона», «Растратчиков», «Братьев», даже просто никогда не были профессиональными писателями, настолько вопиюще, первозданно серыми и убогими они предстают в своих выступлениях. Из уцелевших участников Первого съезда, выступивших на нём, большинство отмолчалось на Втором: Шкловский, Леонов (только доклад о новом Уставе СП), Олеша, Панфёров, Вс. Иванов, Пастернак (который, по свидетельству Чуковского, и вовсе не присутствовал на заседаниях).
Они спорят друг с другом и руководством Союза писателей, иронизируют, обличают, интригуют, говорят о повышении «идейно-художественного уровня», а самые отчаянные так и просто о художественном уровне, но при этом обретаются в глухой защитной одёжке газетной передовицы. Нескрываемый ужас пропитывает и самые смелые речи — ужас перед возможной ошибкой, перекосом, отклонением. Они готовы бушевать в союз-писательских пределах, задевать своих литгенералов, оторванных от жизни, но спаси Бог задеть что-то основополагающее. Как ни странно, а может быть, и вовсе не странно, лишь Шолохов (во многом, видимо, подвигнутый речью Овечкина) позволил себе критику не писательских, а государственных порядков.
Спервоначала он охарактеризовал современную литературу как «серый поток», что было безусловно точно, а отношение писателей к профессиональной работе друг друга как «диковинное безразличие», прошёлся по своим недругам — Эренбургу и Симонову, озвучив внутрилитературные интриги и сплетни: кто кого назначил, кто кому обязан, затем обрушился на «систему присуждения литературных премий».
…Два слова в сторону; даже в 70-е годы я застал в неприкосновенности самое слова «система», например, позволил себе сказать в обкоме, что Бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей не нужны, и натолкнулся на почти ужас: это же система!..
Таким образом Шолохов покусился на внеписательские компетенции и сферы: «Деление произведений на первую, вторую и третью степень напоминает мне прейскурант: первый сорт, второй и третий». Напомню, что три степени имели не какие-то, а именно Сталинские премии, Сталиным же и порождённые. Конечно, спустя почти два года после смерти вождя вроде бы не требовалось особой смелости выступить против его системы поощрения литературы и других областей культуры, однако никто этого не сделал, кроме Шолохова и Овечкина, который сказал: «система присуждения литературных премий была неправильной. Она в значительной степени основывалась на личных вкусах (понимай — вождя. — С. Б.) и была недостаточно демократичной. <���… > что следовало за присуждением премии? Безудержное захваливание в прессе и на всяческих собраниях, издание и переиздание, наводнение этой книгой всех библиотек Советского Союза…». Другие на это не осмелились, а думаю, хуже того, никто и захотел, так как система предполагала долгое безбедное существование лауреату хотя бы и 3-й степени. И среди заполнивших Большой Кремлёвский дворец членов Союза писателей, немал был процент лауреатство на себя примеряющих.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: