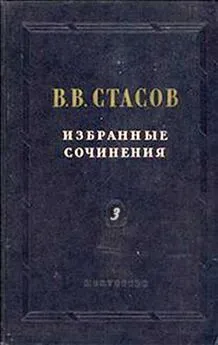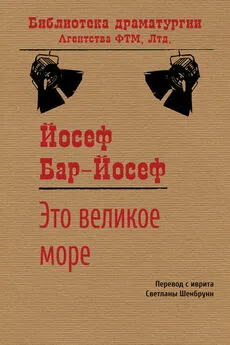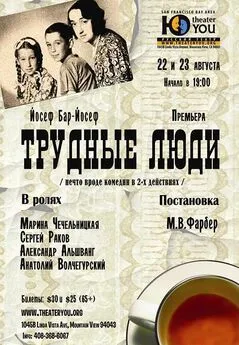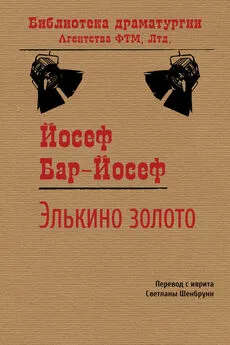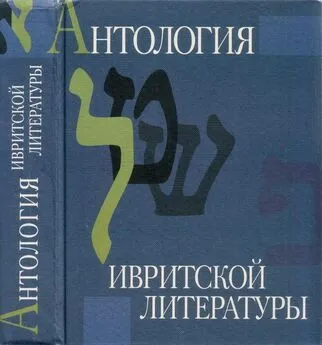Хамуталь Бар-Йосеф - Введение: Декадентский контекст ивритской литературы конца девятнадцатого века
- Название:Введение: Декадентский контекст ивритской литературы конца девятнадцатого века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хамуталь Бар-Йосеф - Введение: Декадентский контекст ивритской литературы конца девятнадцатого века краткое содержание
Введение: Декадентский контекст ивритской литературы конца девятнадцатого века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уже в начале 90-х Шопенгауэр и Гартман упоминаются на одном дыхании, как авторы системы, «в которой слышится дух отчаяния и тьмы», [51] Шолом-Алейхем, Самоубийца .
и как «философы отрицания нашего поколения». [52] Ха-Адраи, Лев Толстой и его взгляды , 35.
В середине 90-х годов Шопенгауэр так популярен (даже больше, чем Ницше), что можно было написать: «Кто не слышал имя Шопенгауэра […], давшего своим ученикам теорию смерти, в которой можно жить» [53] Без подписи, Терновый путь , 2.
. Магией, которой было окутано имя Шопенгауэра в глазах молодых еврейских интеллектуалов, пронизаны длинная статья, опубликованная в журнале Ха-мелиц под заголовком «Теория жизни по Шопенгауэру» [54] Финкель, Теория жизни по Шопенгауэру .
, и очерк Хилела Цейтлина «Добро и зло в понимании еврейских мудрецов и мудрецов других народов» [55] Цейтлин, Добро и зло .
, представляющий собой хвалебный гимн пессимизму в истории мировой и еврейской мысли.
В тот же период Цейтлин принес весть о «святом пессимизме» Шопенгауэра и Ницше компании своих молодых приятелей в Гомеле, среди которых были Бренер и Гнесин. В автобиографическом рассказе «Бе-терем» (Прежде) Гнесин описывает стоявший в доме отца главного героя — Уриэля — книжный шкаф, в котором рядом с религиозными книгами стоял сборник коротких эссе Шопенгауэра Parerga und Paralipomena. [56] Гнесин, Полное собрание сочинений , 1: 261.
Сам Гнесин, для которого Шопенгауэр был самым близким философом, постоянно носил во внутреннем кармане своего пиджака это популярное сочинение [57] Там же: 625.
.
Не было ли исторических и биографических причин, оправдывающих отчаяние молодого образованного еврея? Конечно, были, всегда есть. Но представители этого периода все-таки были правы, когда видели в пессимизме моду, причины распространения которой заключались в заимствовании европейского мышления и в популяризации философских и психологических идей Шопенгауэра и Гартмана, в духе декадентской культуры. [58] Бар-Йосеф, Введение , 22–30.
Пессимизм в духе Шопенгауэра и был первым признаком декадентского влияния на еврейскую культуру того времени.
Вторым признаком являлось усвоение декадентской историософии, включающей в себя мифы «конца века»: кризис утопических верований в прогресс, в вечность национального духа и в возможность возродить его силами немногих избранных; восприятие истории народов и культур как детерминистского процесса, ведущего через детство, молодость и старость к неизбежной и обязательной смерти; и самое главное — страх перед агонией и смертью народов, обладающих богатой, но древней культурой. В еврейском контексте эта идея была особенно пугающей и раздражающей, она вызывала мысленный протест, находящий мощную поддержку в неоромантическом мифе, согласно которому именно продолжительное умирание еврейского народа, представляющее собой затянувшийся сон, и есть признак его сверхъестественной жизнестойкости: «Это действительно так! Мы — это мир умирающих, но […] кто знает, может быть, в таком продолжительном умирании заключается бессмертие?» [59] Мазэ, Салтыков и его высказывания .
. Та же мысль слышится и в поэме Бялика «Меитей мидбар» (Мертвецы пустыни, 1902). Однако уже в 1892 году в журнале Ха-мелиц появляется приводящее в отчаяние описание положения еврейского народа, в духе декадентской мысли: «Поколения сменяются и колесо возвращается на круги своя, то, что было, то и будет […] и нет этому конца» [60] Фридберг, Временное понимание , 260: 6.
. Далее в той же статье написано так: «Эта же главная нота отличает нашу прекрасную эпоху, получившую в газетных заметках название ‘конец века’ […] против этого движения наши слова бессильны» [61] Там же, 268: 4.
. Вся Европа умирает, а еврейство тем более — такая идея звучала из многих уст на протяжении всех 90-х годов. Левинский оплакивает агонию еврейства, превратившегося в живой труп [62] Левинский, Общая любовь , 181: 2–3.
, а в фельетоне Товиова, опубликованном в рубрике «Примеры из книги слов», «застой» определяется как постоянная черта еврейского характера. Еврейский народ не застывает в период отчаяния, когда он окончательно потерял надежду, — утверждает автор фельетона, — наоборот: в смутное время евреи просыпаются, но сразу, как только хорошие дни возвращаются, они погружаются в спячку во всем, что касается национальной жизни чувств. [63] Товиов, Примеры из книги слов , 2–3.
В конце десятилетия Клаузнер увязывает стихи из сборника Переца «Ха-угав» с историческим положением Европы и европейского еврейства: «Сколько идей и раздумий вызовут эти рифмы в сердце каждого, кто чувствует страшное духовное и материальное положение всей Европы ‘конца века’, а тем более в сердце еврея, ибо ‘загнивающее отчаяние’ или ‘отчаянное загнивание’ еще не раз будут разлагать его народ и способствовать его истреблению» [64] Клаузнер, Стихи о любви , 70. Кавычки автора.
.
В двух статьях 1897 года Клаузнер объясняет еврейскому читателю перемену, произошедшую в европейской исторической мысли. Одна статья была опубликована в журнале Ха-шилоах, вторая — в журнале Ха-мелиц. В первой статье Клаузнер подчеркивает роль исторического материализма Бакля (Buckle) в формировании «исторического фатализма» своего времени. По Клаузнеру, вывод Бакля заключается в том, что «ни у одного человека, будь он великим мудрецом или просвещенным монархом, нет никакой возможности изменить ‘дух времени’ даже в малой степени». [65] Клаузнер, Основы нового еврейского движения , 537.
Во второй статье Клаузнер утверждает, что теория Дарвина в естественных науках, с одной стороны, и психология подсознательного школы Шопенгауэра и Гартмана, с другой, привели историческую мысль к новому пониманию каузальной теории, отрицающей свободу воли и романтический тезис, согласно которому историю вершат «великие личности». [66] Клаузнер, Еврейская мудрость , 216: 7.
Клаузнер не принимает детерминистское толкование истории и идею непременной кончины состарившихся культур. Он утверждает, что вера и чувство отдельных личностей или народов обладают исторической силой, и даже когда эта сила ослабевает, ее можно пробудить заново, и литература является мощным двигателем этой силы. Чтобы опровергнуть теорию, по которой каждый народ переживает четыре периода: «детство, молодость, зрелость и старость, а потом — полное уничтожение» [67] Клаузнер, Основы нового еврейского движения , 540.
, - он приводит в пример народы, исчезнувшие с лица земли в период «детства», такие как этруски и гунны, а с другой стороны, народы, находящиеся на пике старости, но, тем не менее, все еще полные жизни: «арабы, китайцы и особенно евреи». [68] Там же.
Клаузнер утверждает, что детерминистское понимание истории само по себе вредно воздействует на молодых, так как сеет среди них пессимизм, заставляет их ненавидеть жизнь и действие и поклоняться безделью. [69] Там же: 541.
Он считает, что эта опасность уже вызвала решительное сопротивление европейских интеллигентов, «поэтому в последние годы мы наблюдаем своего рода возврат к романтизму», в том числе и в нашей литературе. [70] Там же.
Клаузнер показывает декадентство и символизм в европейской литературе как похвальное проявление неоромантического сопротивления детерминизму и обновленной веры в индивидуализм. В пример он приводит Ибсена и Ницше. Еще одно проявление такого сопротивления — это национальная идея. Клаузнер не видит никакого противоречия между национальной идеей и культивированием индивидуализма, наоборот: в духе романтизма, в национальной идее он видит требование уделять внимание индивидуальным особенностям каждого народа. По мнению Клаузнера, декаденты и символисты являются, по своей сути, «наследниками романтиков» [71] Там же: 549.
, и поэтому они тоже могут внести свой вклад в ивритскую литературу национального возрождения. Клаузнер не всегда так оправдывал и поддерживал декадентство и символизм, как он это делал в начале своего пути, будучи критиком, но его доводы указывают на возможность таких сочетаний, как сочетание между декадентством и «литературой национального Возрождения» и между понятием «исторической необходимости» и сионистской идеологией. [72] Альмог, Сионизм и история , 48–58.
Интервал:
Закладка: