Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119691-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание
В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.
Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дому в Протопоповском следовало бы поклониться за русскую литературу и за скромных людей, чей вклад в нее неизмеримо более велик, чем их прижизненная известность. Мне радостно это говорить, ибо на месте этого здания, за 100 лет до Богомолова, стоял с 1840-х по 1855 г. собственный дом поэта, критика и переводчика Семена Егоровича Раича(Амфитеатрова), учителя Лермонтова, Тютчева, писательницы Евгении Тур (Сухово-Кобылиной) и многих других. О Раиче я уже рассказывал в этой книге, но у другого дома его ( Бол. Никитская ул., 60, стр 2). А вот о втором «мастере слова», который, как и Раич, скончался здесь, вообще рассказывать трудно, ибо жизнь его состояла из тайн, военных секретов и даже намеренных сокрытий.
Я говорю как раз о Богомолове (в молодости счетоводе, моряке, помощнике моториста на селе). Здесь он жил уже всесветно известным писателем. За спиной его были написанные повесть «Иван» (1957 г. и 220 переизданий на 40 языках), по которому был поставлен А. А. Тарковским фильм «Иваново детство», и роман «В августе 1944-го» (1974 г., 130 переизданий в мире). «Я их написал со зла, — признается он в одном из последних интервью. — Меня коробило от множества нелепейших несуразностей, когда я читал военную прозу…» А здесь писал уже последнюю книгу с говорящим названием «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…».
Но, несмотря на «всесветность» его славы, мы и сегодня мало знаем о его жизни. Он был жесток, скрытен и уклончив и особенно тверд в самооценке. Уйдя на фронт добровольцем (прибавив себе два года), служил десантником, потом в разведке, в ГРУ, войну закончил в Берлине (пять боевых орденов), а позже участвовал в ликвидации подпольных банд на Сахалине и в Западной Украине. Полусекретная жизнь, о которой не знали даже родные. Такое и впрямь могло только присниться. Но когда его спросили, не похож ли он на Таманцева, главного героя романа «В августе 1944-го», он чуть ли не сквозь зубы признал, что да, есть немного… Этого «немного» иным современникам-прозаикам хватило бы на две жизни рассказов, воспоминаний и выступлений… А он даже в Союз писателей не вступал, отказывался, сколько бы раз ему ни предлагали это…
И еще: премии и награды догоняли его уже в этом доме, но, образно говоря, — не догнали. Когда в 1984-м его наградили орденом Трудового Красного Знамени, то на публичное вручение его он идти категорически отказался. А две денежные премии (немалые по тем временам) даже не взял. Разве не поразительно по нынешним меркам?..
Зато в последний год жизни, в 2003-м, был награжден медалью и дипломом ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую литературу». Потом напишет: «Поскольку они не имели денежного эквивалента — это единственная принятая мной награда за многолетний литературный труд…» Правда, и за ней не поехал на вручение. И вот тогда, в День Победы, и привезли ее ему сюда, в этот дом на Протопоповском.
А через полгода и здесь же скончается. Ему «приснившаяся жизнь» отвела 79 лет.
239. Протопоповский пер., 16(с.), — «писательский дом». Ж. — поэты, прозаики Б. Ш. Окуджава(с 1973 по 1997 г.), А. В. Жигулин(Жигулин-Раевский), Р. Ф. Казакова, Н. К. Старшинов, поэт, гл. редактор журнала «Наш современник» С. В. Викулов, поэт В. И. Букин(«Прощайте, скалистые горы» и другие песни), прозаики В. П. Росляков, О. В. Волков(Осугин) и Б. А. Можаев(1970–90-е гг.), литературовед, критик, гл. редактор журнала «Вопросы литературы» — М. Б. Козьмин, литературовед, мемуарист В. Я. Кирпотин, литературовед, критик, дипломат, гл. редактор журнала «Иностранная литература» (1970–1988), секретарь правления СП СССР Н. Т. Федоренко, журналист, литератор, гл. редактор газеты «Вечерняя Москва» (1963–1966) и еженедельника «Неделя» (1986–1990) — В. А. Сырокомский, его жена — критик И. В. Млечинаи пасынок В. А. Сырокомского— литератор и теледокументалист Л. М. Млечин, а также журналист и драматург Г. А. Боровик.
240. Профсоюзная ул., 123а(с.), — санаторий «Узкое» Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ).
Здесь, в имении князей Трубецких, жил и скончался 31 июля 1900 г. поэт, философ, историк, богослов, критик и публицист Вл. С. Соловьев, сын знаменитого историка. Позже в санатории выступал С. А. Есенин (1924), дважды отдыхал (в 1924 и 1928 гг.) О. Э. Мандельштамс женой, жили по путевкам писатели Б. А. Пильняк(Вогау), Вс. В. Иванов,поэт И. С. Рукавишников(1924), прозаик А. И. Цветаева, сестра М. И. Цветаевой (1925, 1927), поэтесса С. Я. Парнок(в 1927 и 1930 г.). Позднее, уже в санатории Академии наук СССР, здесь отдыхали А. А. Фадеев, К. И. Чуковский, О. Ю. Шмидт, Б. Иллеш, Б. Л. Пастернак(1957) и многие другие.

Санаторий «Узкое»
241. Путинковский Мал. пер., 4(с.), — Ж. — в 1920-е гг. — поэт, прозаик, переводчик, стиховед, критик, математик и художник — Сергей Павлович Бобров.
Но мало кто знает, что он был еще и утопистом, живущим… в утопии. Именно здесь он написал три утопических романа: «Восстание мизантропов» (1922), «Спецификация идитола» (1923) и «Нашедший сокровище» (1931).
В 1910-х гг. Бобров знал всех: Андрея Белого (сохранилась их переписка), Маяковского, Хлебникова, Пастернака, Садовского, Асеева (Асеев даже жил у Боброва, переселившись в Москву), Дурылина. И все знали — его. Может, потому за ним тянулись легенды пополам со сплетнями. Якобы до революции он был черносотенцем, а потом чекистом, якобы он высказался о расстреле Гумилева со слов исполнителей («крепкий тип») и он же в Доме печати во время предсмертного последнего выступления Блока в Москве крикнул, что Блок «уже мертвец». Все это можно встретить во многих мемуарах, но все это нынешние исследователи не подтверждают. Все, кроме одного — яркой был личностью. А это, извините, непростительно в любые времена, даже самые утопические.
Его мать, Анастасия Ивановна Саргина, была детской писательницей, писавшей под псевдонимом А. Галагай, его школой стал Катковский лицей, а затем Училище живописи, ваяния и зодчества. Он сбил и возглавил в 1913-м постсимволистскую группу «Лирика», в 1914-м — знаменитую группу «Центрифуга», а позже и одноименное издательство — полтора десятка книг, вышедших только до революции, включая первый поэтический сборник Пастернака. В том числе, кстати, и свое серьезное исследование 1915 г. — книгу «Новое о стихосложении Пушкина».
Его звали «русский Рембо» — разве это не показательно? Бобров напишет потом про эти годы: «В те времена обратить на себя внимание можно было только громким, скандальным выступлением. В этом соревновались. Не говоря о таких знаменитых критиках, как Корней Чуковский, об отзыве которого мы не могли и мечтать, даже захудалые рецензенты реагировали только на общественные потрясения, яркость и пестроту…» Так со скандалом появилась «Центрифуга», потом альманах «Руканог», нападавший на Бурлюков, Хлебникова, Маяковского, Шершеневича, Третьякова и прочих. Были вызовы, угрозы, решительные встречи (в частности, в кафешке на Арбате, против ресторана «Прага», в не сохранившемся доме № 7, где Пастернак неожиданно влюбился в своего «врага» тогда Маяковского), много чего было…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
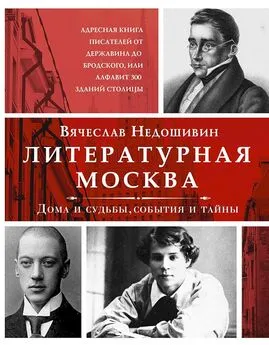
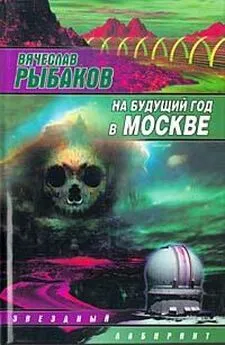



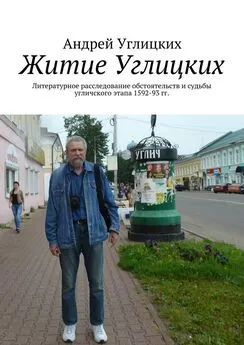
![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)


