Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119691-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание
В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.
Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ну разве не интересно все это? Москва в литературных фантазиях писателя?
232. Пречистенка ул., 16(с. п.), — когда-то «палаты Сукина», чиновника петровского времени С. И. Сукина, потом (до 1815 г.) — особняк военного губернатора Москвы, генерала И. П. Архарова, позже — сенатора И. А. Нарышкина, а с 1869 г. — дом фабриканта Н. И. Коншина (перестроен в 1910 г., арх. А. О. Гунст).
Здесь в 1810–1830-е гг. жил сенатор, обер-церемониймейстер Иван Александрович Нарышкини его жена — Екатерина Александровна Нарышкина(урожд. баронесса Строганова), двоюродная тетка жены Пушкина — Н. Н. Гончаровой. И. А. Нарышкин был избран посаженым отцом на свадьбе Гончаровой и Пушкина (1831). Один из сыновей Нарышкиных будет убит в 1809 г. на дуэли с Ф. И. Толстым-Американцем, а второй, Григорий, через его сына Александра, станет дальней родней фр. писателя Дюма-сына.
В советское время здесь, в Доме ученых, жил в 1923 г. прозаик, публицист Борис Андреевич Пильняк(наст. фамилия Вогау), потом три месяца в 1924 г. — поэт, философ и критик Вячеслав Иванович Иванов, и один месяц — поэт и прозаик Илья Григорьевич Эренбург. Здесь же в служебной квартире жила директриса Дома ученых (1931–1948) — Мария Федоровна Андреева, вторая жена М. Горького.

М. Ф. Андреева
Вот поразительно: писатель Борис Зайцев, вспоминая Горького и его жену 1905 г., писал: «В те наивные годы… была она блистательной хозяйкой горьковского дома — простой, любезной, милой». А вспоминая их же, но десятилетия спустя, отозвался об Андреевой иначе: «Эта безумная большевичка, Андреева, она его (Горького. — В. Н. ) совсем подмяла. С тех пор так подкаблучником и остался…» Может, и правда подмяла. Он ведь еще в эмиграции, на Капри, пообещал любимому сыну Максиму посвятить ему книгу «Сказки об Италии» (Летом, вероятно, выйдет книжка моих сказок и на заглавном листе я напишу: «Сыну моему, Максиму. Пусть вся земля, луна и звезды завидуют тебе!»), но, когда в 1912-м книга таки вышла, на титульном листе стояло посвящение Андреевой.
Когда-то, читая о женщинах революции, в том числе и об Андреевой, я был покорен их романтичностью. «Среди знакомых ни одна, — твердил про себя стихи Александра Кушнера, — не бросит в печку денег пачку, не пошатнется, впав в горячку, в дверях белее полотна… В концертный холод или сквер не пронесет — и слава богу! — шестизарядный револьвер…» Каково?! — оглядывал я по сторонам своих молодых знакомиц! Но чем больше взрослел, чем больше узнавал о «большевичках», тем больше разочаровывался в них. Как же быстро иные бессребреницы, да и большинство революционных бессребреников превращались в тех, кого свергли, — в накопительниц и накопителей.
Говорят, что в 1900 г. в Ялте, где на гастролях был Художественный театр, Горький «не без зависти» смотрел, как Чехов ухаживает сразу за двумя актрисами — Ольгой Книппер и Марией Андреевой. Пишут, что Чехов и Горький на спичках разыгрывали, кому и за кем ухаживать. Чехову досталась будущая жена Книппер, Горькому — Андреева. На деле она была урожденной Юрковской, по мужу, тайному советнику и чиновнику, — Желябужской, по партийной кличке в РСДРП с 1904 г. — Стрелой. Помогала бежать большевикам из Таганской тюрьмы, хранила в столе Горького ленты с патронами, в шкафу — оболочки бомб, капсулы гремучей ртути. Дальше — темные дела, игра (актриса все-таки!) на чувствах людей ради добычи денег для партийной кассы. А потом, когда Горький с ней расстался (первый раз еще в 1909 г.), уже при советской власти, сожительство с Петром Крючковым, секретарем классика и… тайным агентом ОГПУ-НКВД, поставленным следить за стареющим классиком. Была ли тут любовь — не знаю. Но любовь к власти, к деньгам с годами только крепла… В Берлине, где в 1920-х гг. она восемь лет была заведующей художественно-промышленным отделом советского торгпредства, какие-то «темные операции» с художественными ценностями, какая-то торопливая скупка драгоценностей уже не на «дело партии» — на себя.
Вот только что вышли воспоминания Шапориной, вдовы композитора, в которых она рассказывает о дружбе Андреевой с Алексеем Толстым там же, в Берлине. В дневнике от 1932 г. Шапорина пишет: «Все, кто были за границей в Берлине, когда Горький уехал из России… рассказывают, что он иначе как „сволочью“ наше правительство не называл. Толстые тогда в Берлине часто с ним виделись. Однажды Мария Федоровна (Андреева) утром пришла к ним, стала жаловаться, что кто-то донес, будто у них есть золото и драгоценности, может быть даже обыск, и она просит… спрятать у себя чемоданчик, который она пришлет с верными людьми… Через некоторое время двое молодых людей принесли чемодан и попросили указать место, куда они смогли бы сами его поставить. Им указали — под кровать, куда чемодан и был поставлен. Когда на другой день Юлия стала убирать комнаты, она попробовала подвинуть этот „чемоданчик“, оказалось, что это ей было не под силу, так он был тяжел. Стоял у них долго. А теперь от той же Натальи Васильевны и от многих других я знаю о его (Горького. — В. Н. ) пышной жизни в Москве…»
Вот и весь флер когда-то «романтичных героинь», сводящих с ума мужские сердца! Вот и бренные цели лучших представителей «лагеря победителей»! Эх, эх, люди…
233. Пречистенка ул., 20(с.), — этот дворец (а это, конечно, дворец!) построил для своей первой жены Зинаиды Николаевны Высоцкоймиллионер-чаепромышленник Алексей Константинович Ушков(1890–1900-е гг., арх. К. Л. Мюфке). Построил на месте, где еще 20 лет назад стоял собственный дом героя войны 1812 г., мемуариста, генерала Алексея Петровича Ермолова. Тот жил здесь с 1851 до 1861 г., до своей смерти.
Позже на этом месте построил дворец, как я уже сказал, еще для первой жены миллионер Ушков. А разведясь с ней, женился на приме-балерине Большого театра Александре Михайловне Балашовой, с которой в 1922-м бежал в Париж, где супруги почти случайно поселились в бывшем доме Айседоры Дункан. Удивительно! Ведь они лишь позже узнали, что Айседоре Дункан, приехавшей в Россию по приглашению наркома Луначарского, правительство передало под ее школу танца для детей именно бывший дом Ушкова-Балашовой. Балерины просто поменялись домами! Это был не первый приезд Дункан в Россию, но зато — последний. И здесь, уже у Дункан, с 1922 г. жил ее новый муж — Сергей Александрович Есенин. К ним приходили сюда Н. А. Клюев, С. М. Городецкий, И. С. Рукавишников, Вс. А. Рождественский, С. А. Клычков, П. В. Орешин, В. Г. Шершеневич, А. Б. Мариенгоф, А. А. Ганин, Л. И. Повицкий, В. И. Эрлих, Н. Д. Вольпин, И. И. Старцев, А. Б. Кусиков (Кусикян), мемуарист И. И. Шнейдер, художники Г. Б. Якулов, Ю. П. Анненков и многие другие. Наконец, с 1925 по 1927 г., уже после Есенина и Дункан, в этом доме жил прозаик и драматург Пантелеймон Сергеевич Романови его жена — балерина Антонина Михайловна Шаломытова. Опять — балерина! Но здесь Романов и писал свой роман «Русь» (1923–1936).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
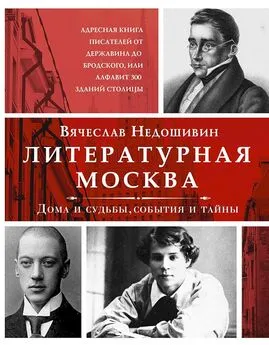
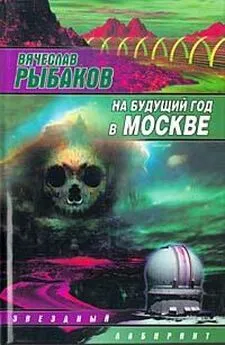



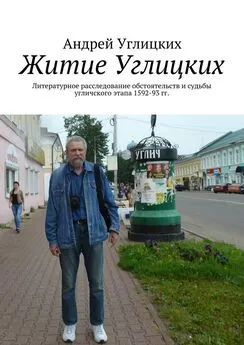
![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)


