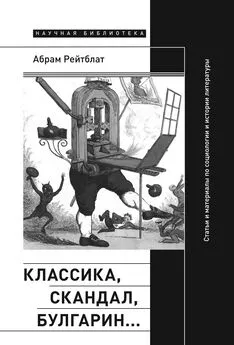Михаил Бахтин - Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927
- Название:Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русские словари
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-93259-013-0 (т. 2) 5-89216-010-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Бахтин - Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927 краткое содержание
Настоящим томом продолжается издание первого научного собрания сочинений М. М. Бахтина, начатое в 1996 г. выходом 5 тома собрания. В составе второго тома — работы автора о русской литературе 1920-х годов — первая редакция его книги о Достоевском (1929), два предисловия к томам полного собрания художественных произведений Л. Н. Толстого (1929) с черновыми архивными материалами к ним, а также (как приложение) — записи домашнего устного курса по истории русской литературы (записи Р. М. Миркиной). Еще одно приложение составляет публикация выписок из немецких философских и филологических сочинений (М. Шелера и Л. Шпитцера), сопровождавших работу автора над книгой о Достоевском, с переводом и комментарием. Том в целом обстоятельно комментирован.
Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Характеризуемая нами особенность Достоевского не есть, конечно, особенность его мировоззрения в обычном смысле слова, — это особенность его художественного восприятия мира: только в категории сосуществования он умел его видеть и изображать. Но, конечно, эта особенность должна была отразиться и на его отвлеченном мировоззрении. И в нем мы замечаем аналогичные явления: в мышлении Достоевского нет генетических и каузальных категорий. Он постоянно полемизирует, и полемизирует с какой-то органической враждебностью, с теорией среды, в какой бы форме она ни проявлялась (например, в адвокатских оправданиях средой); он почти никогда не апеллирует к истории, как таковой, и всякий социальный и политический вопрос трактует в плане современности; и это объясняется не только его положением журналиста, требующим трактовки всего в разрезе современности; напротив, мы думаем, что пристрастие Достоевского к журналистике и его любовь к газете, его глубокое и тонкое понимание газетного листа, как живого отражения противоречивой социальной современности в разрезе одного дня, где рядом и друг против друга экстенсивно развертывается многообразнейший и противоречивейший материал, объясняется именно основною особенностью его художественного видения [41]. Наконец, в плане отвлеченного мировоззрения эта особенность проявилась в эсхатологизме Достоевского — политическом и религиозном, в его тенденции приближать концы, нащупывать их уже в настоящем, угадывать будущее, как уже наличное в борьбе сосуществующих сил.
Исключительная художественная способность Достоевского видеть все в разрезе сосуществования и взаимодействия является его величайшею силой, но и величайшею слабостью. Она делала его слепым и глухим к очень многому и существенному; многие стороны действительности не могли войти в его художественный кругозор. Но, с другой стороны, эта способность до чрезвычайности обостряла его восприятие в разрезе данного мгновения и позволяла увидеть многое и разнообразное там, где другие видели одно и одинаковое. Там, где видели одну мысль, он умел найти и нащупать две мысли, раздвоение; там, где видели одно качество, он вскрывал в нем наличность и другого, противоположного качества. Все, что казалось простым, в его мире стало сложным и многосоставным {17} . В каждом голосе он умел слышать два спорящих голоса; в каждом выражении — надлом и готовность тотчас же перейти в другое, противоположное выражение; в каждом жесте он улавливал уверенность и неуверенность одновременно; он воспринимал глубокую двусмысленность и многосмысленность каждого явления. Но все эти противоречия и раздвоенности не становились диалектическими, не приводились в движение по временному пути, по становящемуся ряду, но развертывались в одной плоскости как рядом стоящие и противостоящие, как согласные, но не сливающиеся, или как безысходно противоречивые, как вечная гармония неслиянных голосов или как их неумолчный и безысходный спор. Видение Достоевского было замкнуто в этом мгновении раскрывшегося многообразия и оставалось в нем, организуя и оформляя это многообразие в разрезе данного мгновения.
Эта особая одаренность Достоевского слышать и понимать все голоса сразу и одновременно, равную которой можно найти только у Данте, и позволила ему создать полифонический роман. Объективная сложность, противоречивость и многоголосость эпохи Достоевского, положение разночинца и социального скитальца, глубочайшая биографическая и внутренняя причастность объективной многопланности жизни и, наконец, дар видеть мир в категории взаимодействия и сосуществования, — все это образовало ту почву, на которой вырос полифонический роман Достоевского.
Итак, мир Достоевского — художественно организованное сосуществование и взаимодействие духовного многообразия, а не этапы становления единого духа. Поэтому и миры героев, планы романа, несмотря на их различную иерархическую акцентуацию, в самом построении романа лежат рядом в плоскости сосуществования (как и миры Данте) и взаимодействия (чего нет в формальной полифонии Данте), а не друг за другом как этапы становления. Но это не значит, конечно, что в мире Достоевского господствует дурная логическая безысходность, недодуманность и дурная субъективная противоречивость. Нет, мир Достоевского по-своему так же закончен и закруглен, как и дантовский мир. Но тщетно искать в нем системно-монологическую, хотя бы и диалектическую, философскуюзавершенность, и не потому, что она не удалась автору, но потому, что она не входила в его замыслы.
Что же заставило Энгельгардта искать в произведениях Достоевского «отдельные звенья сложного философского построения, выражающего историю постепенного становления человеческого духа» [42], т. е. вступить на проторенный путь философской монологизации его творчества?
Нам кажется, что основная ошибка была сделана Энгельгардтом в начале пути при определении «идеологического романа» Достоевского. Идея, как предмет изображения, занимает громадное место в творчестве Достоевского, но все же не она героиня его романов. Его героем был человек, и изображал он в конце концов не идею в человеке, а, говоря его собственными словами, — «человека в человеке». Идея же была для него или пробным камнем для испытания человека в человеке, или формой его обнаружения, или, наконец, — и это главное — тем medium'ом, той средою, в которой раскрывается человеческое сознание в своей глубочайшей сущности. Энгельгардт недооценивает глубокий персонализм Достоевского. «Идей в себе» в платоновском смысле или «идеального бытия» в смысле феноменологов Достоевский не знает, не созерцает, не изображает. Для Достоевского не существует идеи, мысли, положения, которые были бы ничьими — были бы «в себе». И «истину в себе» он представляет в духе христианской идеологии, как воплощенную в Христе, т. е. представляет ее как личность, вступающую во взаимоотношения с другими личностями.
Поэтому не жизнь идеи в одиноком сознании и не взаимоотношения идей, а взаимодействие сознаний в medium'е идей {18} (но не только идей) изображал Достоевский. А так как сознание в мире Достоевского дано не на пути своего становления и роста, т. е. не исторически, а рядом с другими сознаниями, то оно и не может сосредоточиться на себе и на своей идее, на ее имманентном логическом развитии и втягивается во взаимодействие с другими сознаниями. Сознание у Достоевского никогда не довлеет себе, но находится в напряженном отношении к другому сознанию. Каждое переживание, каждая мысль героя внутренне-диалогичны, полемически окрашены, полны противоборства, или, наоборот, открыты чужому наитию, во всяком случае не сосредоточены просто на своем предмете, но сопровождаются вечной оглядкой на другого человека. Можно сказать, что Достоевский в художественной форме дает как бы социологию сознаний, правда, на идеалистической основе, на идеологически чуждом материале и лишь в плоскости сосуществования. Но, несмотря на эти отрицательные стороны, Достоевский, как художник, подымается до объективноговидения жизни сознаний и форм их живого сосуществования и потому дает ценный материал и для социолога.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



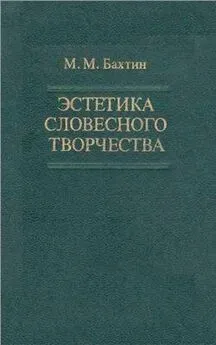
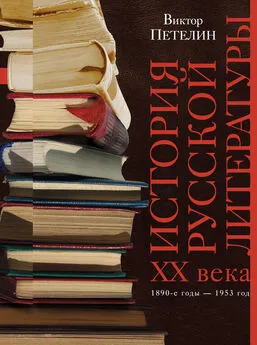
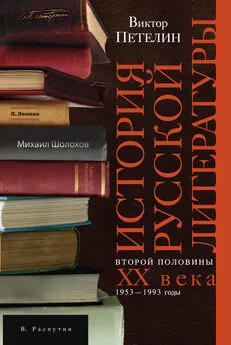
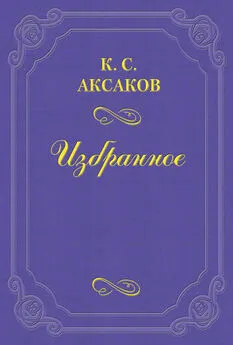
![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/1143259/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati.webp)