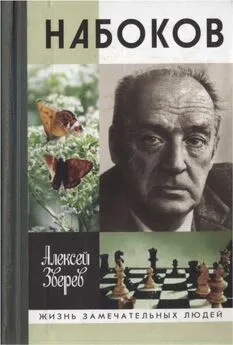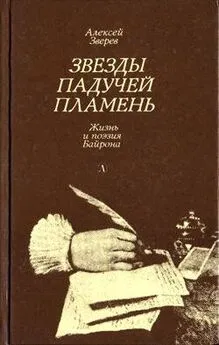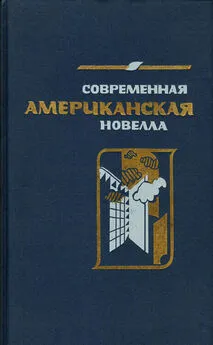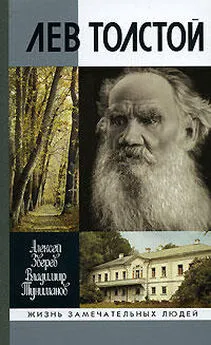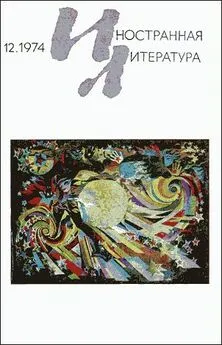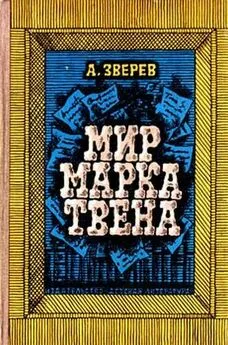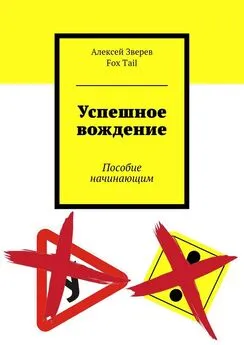Алексей Зверев - Набоков
- Название:Набоков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02723-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Зверев - Набоков краткое содержание
Метаморфозы жизненного и творческого пути Владимира Набокова в точности повторяют метаморфозы времени, в котором ему выпало жить. Революция, исход интеллигенции из России, невозможность жить без Родины и невозможность на Родину вернуться обернулись в творческой судьбе Владимира Набокова, блестящего стилиста, наследника пушкинской традиции, вынужденной, а затем нарочитой бездомностью, поиском своего места в чужой культурной традиции и даже отказом от родной речи как средства самовыражения. Современному читателю тем более интересно получить возможность ознакомиться с биографией Владимира Набокова, что она принадлежит перу известного литературоведа Алексея Зверева.
Набоков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сам он, во всяком случае, наделен способностью выносить эту боль достойно — дар, которого за ним не отрицает никто. Даже столько его мучившая Лиза, чья душа — Пнин это знает — всего лишь «ссохшаяся, беспомощная, увечная тварь», или тупица Гаген, который предал самого преданного и надежного своего сотрудника. Фамилия героя фигурирует в подробных историях русской поэзии — ее носил, в усеченном виде унаследовав от фельдмаршала князя Репнина, чьим незаконнорожденным сыном он был, малоизвестный стихотворец павловского времени. Реальный Пнин общался с теми, кто потом оставит след в биографии Пушкина: с генералом Инзовым, своим соучеником по пансиону, с отцом декабристов Бестужевых, с Батюшковым, с Гнедичем. Жизнь этого Пнина складывалась несчастливо. Он тяготился положением внебрачного отпрыска прославленного вельможи. А когда князь не упомянул его в своем завещании, пустив прахом ожидания устроенного будущего, из-под пнинского пера вышло сочинение, выразительно названное «Вопль невинности, отвергаемой законами».
Герой Набокова после того, как Гаген бросил его на произвол судьбы, имел причины написать что-нибудь в такой же стилистике. Но его и в катастрофе поддерживает никогда не изменяющая вера, что, пока вьется нить, «есть что-то такое во мне и в самой жизни» — не поддающееся формулировкам, но обязывающее «в бою ли, в странствиях, в волнах» оставаться человеком, который выпестован русской культурой и пушкинской эпохой (а возможно, и памятью об однофамильце, о котором Батюшков, отзываясь на раннюю его, в тридцать два года, кончину, писал: «Пнин чувствам дружества с восторгом предавался; Несчастным не одно он золото дарил» — уж не говоря о том, сколь «был согражданам полезен»). После той неудавшейся вечеринки, когда празднованье новоселья закончилось для хозяина известием, что его работе в Уэйнделе приходит конец, Пнин — старый, беззубый, с пеленой слез на глазах — моет посуду и в пенную раковину падают щипцы для орехов, производя звон разбившегося стекла. Кажется, погибла та чаша с изумительным рисунком, которую Пнину подарил Виктор Винд, гостивший у него сын Лизы, — чужой мальчик, занявший такое важное место в его одинокой жизни. Разбившаяся чаша была бы кричащим, безвкусным олицетворением полного краха, который ему уготовано пережить, но Пнин, уколовшись до крови об осколок стакана, извлекает ее из-под мыльной пены в сохранности. И, все перетерев досуха, усаживается за кухонный стол писать доктору Гагену письмо, где, можно не сомневаться, будет отказ от всех благодеяний, которыми старший коллега пытался утешить его, смягчив нежданный удар.
Пушкинские интересы и ориентации Пнина должны были особенно расположить к нему Набокова, тем более что его герой, читая со своим крохотным семинаром лирику Пушкина, толкует ее с неукоснительной заботой о смысловой точности, которой принесено в жертву все остальное. Набоков был тогда занят тем же самым, и уже не первый год. Он готовил к публикации свое переложение «Евгения Онегина» на английский. И писал к нему комментарий, по своей полноте и дотошности все еще не знающий себе равных.
Эту работу он начал прежде всего из-за того, что изучать Пушкина со студентами, не знающими русский язык, находил невозможным, то и дело обнаруживая чудовищные, по его понятиям, промахи и натяжки в имевшихся стихотворных переводах романа. Таких переводов было пять. Ранний, принадлежащий Г. Сполдингу, появился еще в 1881-м, а три новых, приуроченных к столетию гибели Пушкина, ни в чем не превзошли тот скромный образец. Все они, как и труд У. Арндта, что вышел за полгода до набоковского (и был удостоен престижной переводческой премии), подвергнуты в комментариях и в статье, специально посвященной арндтовской версии, такой критике, которая нередко переходит все границы благовоспитанности и приличия.
Испуганные резкостями и издевательствами, которые Набоков обрушил на предшественников (и на Арндта, который посмел с ним соперничать), издатели просили кое-что снять или смягчить, однако наткнулись на категорический отказ. Набоков успокоил редакторов «Пантеона», написав, что из тех, кто им жестоко обруган, трое давно покинули этот мир и, значит, не будет иска, а четвертая не осмелится его подать. Кажется, еще не бывало случаев, чтобы полемика из-за принципов перевода велась с оглядкой на вероятность или невозможность юридического преследования.
Дело, разумеется, не зашло бы так далеко, если бы за те четырнадцать лет, что отделяют начало работы над «Евгением Онегиным» от публикации четырех роскошно отпечатанных томов, статус Набокова как литератора не претерпел очень существенных изменений. Они, помимо многого другого, резко усилили и прежде ему присущее чувство своей исключительности и непогрешимости. Он был непоколебимо убежден, что никто до него не сумел толком перевести «Онегина» или как следует прочесть роман. И что сделанное им сделано на века — новых английских версий не будет (Арндт, однако, думал иначе, а в 1977-м появился еще один стихотворный перевод — сэра Чарлза Джонстона).
К тому времени, как в 1964 году Набоков последний раз рукой мастера прошелся по своей необъятной рукописи, после долгих проволочек отправлявшейся в типографию, это убеждение приняло у него характер некой обсессии. С Пушкиным он чувствовал себя, как известный герой, «на дружеской ноге», и просматривая свой труд в последний раз, уже в 1970-м, удовлетворенно писал редактору: «Я для него сделал по меньшей мере столько же, сколько он для меня».
Но и до этого давал себя ощутить комплекс единственного достойного интерпретатора Пушкина, склонявший к некорректным действиям — вроде разгромной статьи о переводе Арндта, когда вот-вот должен был появиться его собственный. Что же касается прежних переводчиков, им достается поминутно, да еще в каких выражениях! «Зарифмованные глупости… смехотворные ошибки… нелепость» — и это не самое худшее.
Комментарий, занимающий основное место в его издании (где был факсимильно воспроизведен петербургский «Евгений Онегин» 1837 года, последний вышедший при жизни Пушкина, а также давались история рода Ганнибалов, очерк различий между русской и английской системой стихосложения, подробнейший указатель), расцвечен такого рода комплиментами. Почти так же часто ими Набоков удостаивает и толкователей романа, работавших до него. Его любимая мишень — официозное советское литературоведение, которое все норовило увидеть в герое почти декабриста, а в авторе обличителя дикостей крепостного права. Однако нелестных упоминаний удостоены и старые русские «журналисты типа Белинского — Достоевского — Сидорова»: они уродовали роман своими «страстными патриотическими восхвалениями добродетельности, воплотившейся в Татьяне», хотя на самом деле в последней сцене с Онегиным она, уверяет Набоков, дала прозрачное обещание, «от которого должно было радостно забиться сердце искушенного Евгения». И Набоков поддается соблазну пофантазировать о том, как именно протекал бы их беззаконный роман, заодно издеваясь над «идейной критикой», особенно — этого следовало ожидать — над знаменитой Пушкинской речью Достоевского. «Сверх всякой меры захваленный автор сентиментальных и готических романов», Достоевский не вполне точно сформулировал какие-то подробности (не учел, например, что маршрут путешествия Онегина пролегал не по чужбине, а, скорей, по России, зря аттестовал мужа Татьяны «честным стариком» — тот был еще не стар годами). Стало быть, с ликованием заключает Набоков, готовясь к своей «трескучей политико-патриотической речи», Достоевский даже не перечел роман.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: