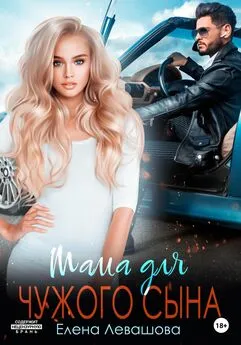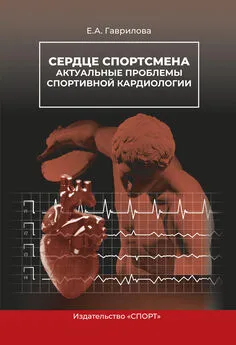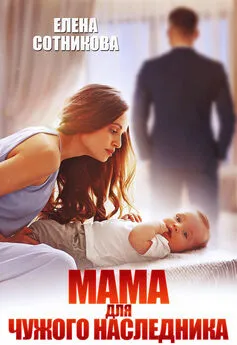Елена Андрущенко - Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского
- Название:Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91763-12
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Андрущенко - Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского краткое содержание
Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.
В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С. Мережковского, показаны возможности, которые текстология открывает перед тем, кто стремится пройти путь от писательского замысла до его реализации, а иногда и восприятия читателем.
Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава пятая «Религии» посвящена исследованию того, что Д. Мережковский называет «последней борьбой» Христа и Антихриста или «последних глубин раздвоения Л. Толстого и Достоевского». Она является самой большой по объему во всей книге и имеет несколько тематических узлов, связанных с образами князя Мышкина, Ставрогина, Версилова, Ивана Карамазова, Кириллова, затем — с близостью идей Ф. Ницше и Ф. Достоевского. Сам Д. Мережковский сравнивает свою интерпретацию наследия писателя с нисхождением Данте за Вергилием «по суживающимся подземным кругам» (439).
Глава начинается стихотворением З. Гиппиус «Электричество». Возникающий в нем образ сплетения «да» и «нет» призван проиллюстрировать мысль Д. Мережковского о космическом раздвоении, лежащем в основе мироздания, и всеобщем стремлении к синтезу, который и «будет Свет», и становится в главе сквозным. По поводу него Л. Шестов писал:
«… стихотворение едва ли может быть названо удачным. Оно схематично отвлеченно — в сущности рифмованное переложение параграфа из элементарной физики. <���…> И заглушив в себе природную эстетическую чуткость, г. Мережковский постоянно повторяет „Электричество“, не соображая, что при многократном чтении даже неопытный читатель может догадаться, что „Электричество“ — слабая вещь. По содержанию „Электричества“ видно, каких „выводов“ добивается г. Мережковский. Подобно всем идеалистам, и он убежден, что звание писателя обязывает его сделать знаменитое salto mortale — перескочить через всю жизнь к светлой идее» [120] Шестов Л. Власть идей (Д. Мережковский. «Л. Толстой и Достоевский»). С. 207.
.
Д. Мережковский отталкивается от мысли Ф. Достоевского о его раздвоении, высказанной в одном из его писем, источник которой, однако, найти не удалось, и выстраивает развернутый цитатный ряд из его «Дневника писателя», «Записок из подполья», трагедии Пушкина «Пир во время чумы», из незавершенной драмы Гёте «Прометей» и его оды «Прометей», иллюстрирующих «отрицание» и «восхищение собственной дерзостью», высказанное в них. Тему продолжает фрагмент из рассказа Корба о «Всешутейшем соборе» Петра I, т. е. о шутовском представлении, пародировавшем церковную иерархию, отличавшемся безобразиями и пьянством. Этот фрагмент был воспроизведен в романе «Петр и Алексей». Д. Мережковский вводит цитаты из «Ряда статей о русской литературе» Ф. Достоевского, из его «Записной тетради» за 1880–1881 гг. и «Дневника писателя» за 1873 г., из оды Гёте «Прометей» и трагедии А. Пушкина «Пир во время чумы», но уже в сокращении, затем — четверостишие из стихотворения В. Соловьева «Ex oriente lux» («Свет с Востока») (1890), высказывание Ивана Грозного из первого послания Курбскому (л. 298 пространной редакции, л. 11 краткой редакции), цитируемое по одному из изданий их переписки [121] Переписка Курбского с Грозным издана в собрании сочинений А.М. Курбского (СПб., 1833; 2 изд. — СПб., 1842; 3 изд. — СПб., 1868).
, и слова Подростка из романа Ф. Достоевского. Широкий ряд ассоциативных сопоставлений и сближений завершается упоминанием двух преданий, в которых, как полагает Д. Мережковский, соединяются
«два самые противоположные идеала, два венца, два „конца“: венец православного Рима, венец Христова царства, которое не от мира сего, „Белый Клобук“, и венец „нечестивейшего из царей“ Навуходоносора, переданный, будто бы, московским царям византийскими кесарями, венец проклятого Богом, „змеиного“ Вавилонского царства — от мира сего, венец Антихриста» (366).
Речь идет о «Повести о новогородском белом клобуке» (XVI в.), в которой подчеркивалась значительность новгородской церковной святыни — белого клобука, который, по преданию, новгородские архиепископы получили из Византии, куда он был перенесен из Рима, и о «Вавилонском царстве», т. е. цикле сказаний, центр которого составляет «Сказание о Вавилоне» (конец XIV — 1-я пол. XV в.). Д. Мережковский ошибочно связывает его с идеей «Москва — третий Рим»:
«Как бы спор этот ни решился, он будет иметь значение не для одной России; и во всяком случае, он или нигде не решится окончательно, или — здесь, в России, на последнем рубеже между прошлым и будущим, между Востоком и Западом, между „Ксерксом и Христом“, в стране Петра и Пушкина, Л. Толстого и Достоевского, в стране величайшей всемирно-исторической полярности. Или нигде, или здесь должна вспыхнуть последняя соединяющая искра — „неимоверное видение“, которым „кончится все“. Никто так глубоко не исследовал религиозного раздвоения русского духа под действием этой всемирно-исторической полярности, никто так ясно не предсказывал ее возможного неизмеримого значения в будущем не только России, но и всего мира, как Достоевский» (366).
Этим выводом завершается один из тематических разделов пятой главы «Религии». Д. Мережковский полагал, что в образе Раскольникова выразилось раздвоение между антихристианским сознанием и бессознательным христианством, потому он обращается к анализу романа «Идиот», чтобы выявить, как эта проблема решается в образе князя Мышкина.
«Сам Достоевский вплоть до „Братьев Карамазовых“ считал роман этот лучшим созданием своим — таким, в котором выразилось с наибольшей полнотою и ясностью самое внутреннее существо его. Ему казалось, по-видимому, что здесь окончательно решена задача, которая поставлена в „Преступлении и наказании“, что в князе Мышкине дано самое действительное русское противоядие от западноевропейского яда, заключенного в Раскольникове, и что болезнь раздвоения, изображенная в русском нигилисте, подражателе Наполеона, окончательно побеждена в Идиоте нерушимым единством русского народного духа, то есть „православием“» (366).
Речь идет, по-видимому, о словах писателя, высказанных в его письмах А.Н. Майкову. В одном из них, от 26 октября (7 ноября) 1868 г. из Милана, Ф. Достоевский писал:
«…я убедился горько, что никогда еще в моей литературной жизни не было у меня ни одной поэтической мысли лучше и богаче, чем та, которая выяснилась теперь» (366).
Анализ романа «Идиот» ведется в контексте, близком к использованному в четвертой главе «Религии», но с иным акцентом — он смещается в сторону темы «священной» болезни князя Мышкина, с которым отождествляется сам Ф. Достоевский. Д. Мережковский цитирует слова Н. Страхова из его «Воспоминаний» о тоске писателя после припадков эпилепсии, контаминирует слова старца Зосимы о «клейких листочках» с описанием «таинственной вечери нового Диониса», библейскую цитату и слова Кириллова. Этот ассоциативный ряд, в котором сближаются, а также выпрямляются некоторые идеи, позволяет ему сделать следующий вывод:
«Оправдание Идиота в том, что своим сознанием он выше исторического христианства, — сознанием он уже, действительно, во Христе: тоскует о плоти и крови, стремится за черту горизонта. Но новый дух у него в слишком старой, только умерщвленной и не воскресшей плоти, молодое вино — в ветхих мехах. Припадки „священной болезни“ — это судорожные усилия духа его, рвущегося из плоти, которая хочет и не может „измениться“, по слову Кириллова: „человек должен измениться физически“, и по слову апостола: „не все мы умрем, но все изменимся скоро, в мгновение ока“. Идиот — это человек, пришедший не в брачной одежде, не в новой плоти, на новый пир. Он погибнет — до конца чужой всему, выкидыш, полусвятой, полубесноватый, подобно противоположному близнецу своему, „идиоту“ Ницше. Оба они так и не узнают причины своей гибели — „умрут во сне“, — мы знаем за них, что эта причина, эта страшная тоска, которою они „мучаются глухо и немо“, — тоска и боль последнего раздвоения» (370).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: