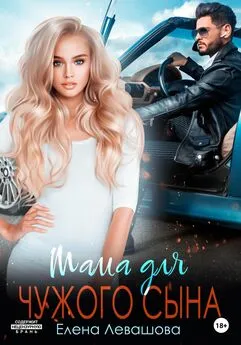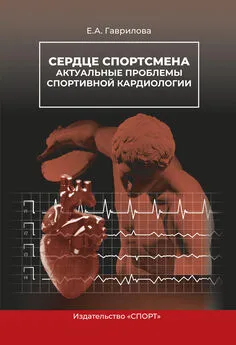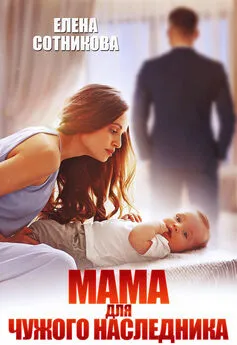Елена Андрущенко - Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского
- Название:Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91763-12
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Андрущенко - Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского краткое содержание
Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.
В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С. Мережковского, показаны возможности, которые текстология открывает перед тем, кто стремится пройти путь от писательского замысла до его реализации, а иногда и восприятия читателем.
Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Стилизация претекстов давала возможность Д. Мережковскому утвердить своеобразное понимание сущности русских интеллигентов как «романтиков» и «изгнанников»:
«Дон-Кихоты, безумцы, романтики. Самые смешные люди в мире. Ну и пусть. Пусть над нами смеются взрослые, важные, умные. Не бойтесь, друзья, не они, а мы победим, мы, смешные, победим смеющихся!» (316).
Подобное представление выражено и в статьях писателя, и в его романе о декабристах, писавшемся параллельно с «Романтиками»:
«„почвенники“, самобытники, националисты гораздо менее русские люди, чем наши нигилисты, отрицатели, наши интеллигентные „бегуны“ и „нетовцы“. <���…> Да, в России — нерусские, совсем чужие, безродные, бездомные, пришельцы, скитальцы, изгнанники вечные».
Этот смысл пьесы оказался внятен Н. Слонимскому, который полагал, что
«их мечта воплотится, ибо воля их сильна и безраздельна. Здесь на земле создадут они <���…> лучший край. Не Дьяковы с их „религиозным неделаньем, вечным бессильем духа, пассивностью в любви“, люди „мертвой зыби, веры без дел“ „делают историю“, а „романтики“, активная воля которых еще „проявит себя“» [173] Слонимский Н. Святой бунт. «Романтики». СПбЦГАЛИ. Ф. 118. Оп. 1. Ед. хр. 1773, л. 28. Опубл.: Биржевые ведомости. 1916. 28 ноября.
.
Последняя пьеса Д. Мережковского «Будет радость» впервые опубликована в Петроградском издательстве «Огни» в 1916 г. Как уже говорилось, работа над ней продолжалась несколько лет. Можно предположить, что созданию этой пьесы предшествовал иной замысел, зафиксированный в рабочих записях писателя [174] Д.С. Мережковский. Пьеса его. Рук. 100 л. ОР ИРЛИ РАН. Арх. Д.С. Мережковского, № 24217/ CLXII. б 25. лл. 2-94 об.
— незавершенная пьеса, текст которой помещен в общей тетради. На лл. 2–12 дан ее план:
«Борис
Глеб
Лия
Тетя Софа Марк Трифон Бондаренко
I
Пасхальная ночь
1) Тетя Софа и Лия. Ожидают Бориса. Грустная Пасха для т.<���ети> Софы. Она слепнет. О Глебе. Что с ним? Тете Софе легче говорить с Лией о старце Германе, о чуде, чем с Глебом. — „Жидовочка вы моя!“ Лия стосковалась о своей девочке. Т.<���етя> Софа о Марке. Он истратил ее деньги, связался с актрисою. Она жалеет его. Не увидит и Лия. Уходит в церковь.
2) Марк и Лия. Выспрашивает ее о Борисе, о том, что было в Париже. Как он пьянеет от Лии. Уехал бы с нею. Он один ее понимает, она — язычница. Лия — Лилит, первая жена Адама.
„Я ваш — Личард верный, ваш Мефистофель“. О тете Софе. Он хулиган. Пасхальные колокола.
Борис. Марк не хочет им мешать. Когда Лия уходит встречать Бориса он смотрит за нею вслед.
3) Борис и Лия
О Глебе. О том, что было в Париже. О маленькой Софочке. О старце Германе. Лия о своем одиночестве.
Борис и Глеб.
О Лие о жидах и жидовстве. О маленькой Софочке. „Плевелы“ — женщины. Несуществующие люди. Старец Герман. Глеб хочет бросить все и уйти к нему в монастырь. Б.<���орис> тоже много думает о религиозных вопросах, но пришел к иному. Он от мира не уйдет. Глеб: весь мир лежит во зле.
5) Борис, Глеб, Лия, т.<���етя> Софа, Марк.
Общий разговор за столом. [„Христос воскресе!“].
Летательные машины. Россия и Европа. Народы — богоносцы. „Фармацевт“. Народ и интеллигенция. „Жид идет“. Пьет за гибель интеллигенции. Братья чувствуют как они разошлись.
Лия и Глебу окна. „Какое все печальное и родное“. Петербург. Ведет его со свечою. Марк и Глеб смотрят на них.
6) Марк и Глеб.
Марк намекает на любовь Лии к Борису. — „Я тебя когда-нибудь спущу с лестницы“. — „Ты меня уже не раз спускал. Но я возвращаюсь. Гони природу в дверь, она влетит в окно“. — „Убирайся к черту!“ — „Берегись, — между нами что-то есть“. — „Мерзавец!“ Глеб падает, закрыв лицо руками.
II
На монастырской даче
О старце Германе. [Марк и Глеб]. Трифон рассказывает тете Софе. В ст.<���анице> о нем говорят. Как он беседовал с каждым…
БондаренкоПятна старой революции. Презирает всех. О Лии.
Неужели он, Глеб, ничего не видит.
Борис и Лия. Она говорит ему, что любит его. Он хочет уехать. Она умоляет, чтоб он остался, — она больше не будет об этом говорить. Поцелуй.
Марк и Борис. Хочет оскорбить его и вызвать на дуэль. — „Только скажите, любите ли вы ее“. — „Люблю“. — Хулиган. Конченый человек.
III
У святого источника
Богомольцы о старце Германе. Глеб возвращается из пустыни, причастившись. Узнал о самоубийстве Марка.
IV
В Петербурге осень
Борис и Лия. Он уезжает. Говорит ей, что любит ее. О Глебе. Она его боится. Сот с бритвою. Она для него — диавол.
Борис и Глеб. Глеб предлагает Борису, чтобы Лия уехала с ним. Не хочет им мешать. Судьба его, Глеба, такая же, как Марка, он тоже хулиган, тоже конченый человек. Если от него уйдет Лия, он будет свободен. Сам уйти от нее он не решается. Борис отвечает, что все это — болезнь, сумасшествие. — „Да, я схожу с ума. И Лия этого хочет. И ты тоже хочешь этого. Вы оба соединились против меня“.
Глеб и Лия.Он выспрашивает у нее, любит ли она Бориса, принадлежала ли она ему. Она отвечает ему с презрением. Он кидается на нее с бритвою. Взгляд Бориса и останавливает Глеба.
Борис и Глеб. Борис читает ему письмо старца Германа. Но уже поздно. Ему все равно. Хочет спать. Уходит. Борис остается один. Смотрит, прислушивается. Перерыв.
Борис и Глеб. Во сне видел старца Германа. Пойми все. Уходит вместе с братом от Лии. Вернется с ним в революцию. Лия: „Я боюсь“. Она уходит к девочке и к тете Софе. Чудо старца Германа. Все трое обнимаются» (648–650).
Судя по плану драмы, работу над ее текстом Д. Мережковский начал с пятого явления I действия, записанного в тетради первым, а затем, карандашом, дописывал первые четыре явления. В тексте (лл. 12–94-об.) сохранились следы авторской правки чернилами и карандашом. Упоминаний о работе над пьесой не сохранилось. Ее литературный претекст установить не удалось, но при раскрытии источников интертекста становится очевидно, что в пьесе использованы цитаты и реминисценции, отсылающие к творчеству Ф. Достоевского. Д. Мережковский также пытается воспроизвести совокупность его стилистических приемов. Как уже говорилось во второй главе, способом постижения наследия Ф. Достоевского была мифологизация, Д. Мережковский оперировал его образами, идеями, именами героев, названиями произведений как емкими семантическими формулами, за которыми подразумевается целый комплекс значений и возникают определенные ассоциации. Именно такие формулы введены в текст пьесы. Например,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: