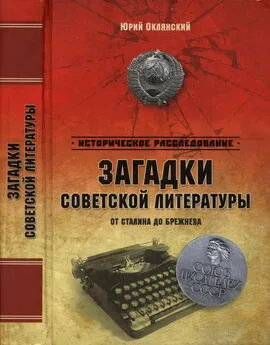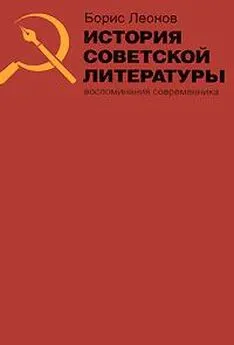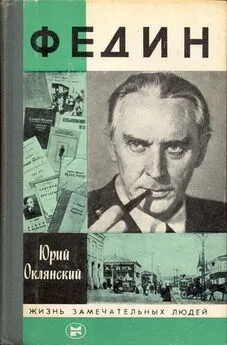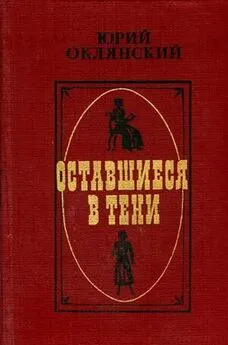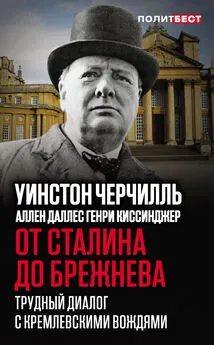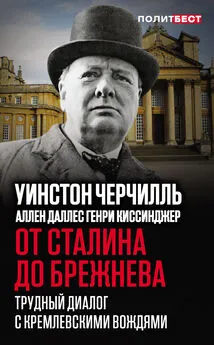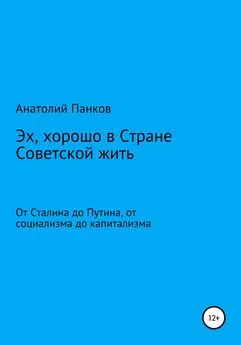Юрий Оклянский - Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева
- Название:Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-4444-2616-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Оклянский - Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева краткое содержание
Советский классик Константин Федин в течение почти двадцати лет возглавлял Союз писателей СССР. Через судьбу «министра советской литературы» автор прослеживает «пульс» и загадки эпохи. Наряду с Фединым герои книги — М. Горький, И. Сталин, Л. Берия, Н. Хрущев, аппаратчики ЦК и органов безопасности, естествоиспытатель В. Вернадский, И. Бунин, А. Толстой, Е. Замятин, Стефан Цвейг, Б. Пастернак, А. Ахматова, А. Твардовский, А. Солженицын, а также литераторы более молодого поколения. Ю. Трифонов, любимый из учеников Федина, поэты А. Вознесенский, Е. Евтушенко… Автор также свободно пускает в ход мемуарный арсенал — использует в книге собственную переписку с К. Фединым и наблюдения от многолетних встреч с ним. Признанный биограф и исследователь былого, издавший более тридцати книг, Юрий Оклянский ведет исторические разыскания живо и увлекательно…
Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Больше всего на свете Федин любил одиночество в рабочем кабинете и исполнять накопившиеся замыслы, писать, писать… А вместо этого долгие годы и даже десятилетия состоял то в реальных руководителях, то в зиц-председателях различных бюрократических объединений, носящих творческие вывески, включая Союз писателей СССР. И оттого биография этого кабинетного от природы человека, помимо его воли, нередко обретала авантюрные развороты…
Авантюра, как толкуется в словарях, это «рискованное, сомнительное предприятие, рассчитанное на случайный успех; дело, предпринимаемое без учета реальных возможностей и обреченное на провал». Свою «кабинетность», напряженную и замкнутую творческую устремленность Федин доказал тем, что, будучи участником обороны Петрограда от Юденича и имея другие прошлые заслуги перед победившей советской властью, в 1921 году вышел из Коммунистической партии. Этим он демонстративно отказывался от широкой общественной карьеры, предпочитая ей подвижничество, одинокий духовный труд в контакте с небольшой группой единомышленников в почти одновременно созданном объединении «Серапионовы братья». А свою «авантюрность» он же, Федин, многократно демонстрировал тем, что, не имея на то достаточных духовных опор и моральных данных, впоследствии постоянно стремился выдвинуться на общественные руководящие посты, создаваемые и опекаемые той самой казарменной коммунистической элитой, от формального возврата в которую он вроде бы навсегда отказался. И что из всего этого получалось?
Дискуссионные баталии вокруг Федина обострились сразу же после распада СССР. Вязанку хвороста в огонь подбросило чистое совпадение. В декабре 1991 года распался Советский Союз, а через два месяца, в феврале 1992 года, отмечалось 100-летие со дня рождения классика. Сама жизнь указывала площадку для очередного турнира.
«Писатель советского прошлого» — таким ярлыком снабдила героя уже в заголовке большой юбилейной статьи член ельцинского Президентского совета и комиссии по помилованию М. Чудакова. В этих придатках ельцинского единовластия боролись за отмену смертной казни, но мнимых идейных противников сабельным коротким ударом разваливали до пояса напополам.
В те же самые месяцы Федину была посвящена широкая научная конференция. Ее устроили Саратовский университет, здешний пединститут и музей писателя. Прибыли выступающие из Москвы и Санкт-Петербурга.
В газетной статье «Найти свой лад…», лирической по тону, однако же с острым полемическим запалом, итоги подвел Станислав Лесневский. «Саратов очень много дает для понимания Константина Федина — писателя и человека… — пишет автор. — От Саратова, от русской провинции — душевная теплота фединской прозы, ее достоверность, убедительность, приверженность традиционным ценностям русской культуры, вся атмосфера этого русского мира, со всеми милыми подробностями. С вечными исканиями, со всеми простыми и высокими человеческими драмами; отсюда фединские героини, такие, как Анечка Парабукина, Лиза, сохраняющие трогательное родство с тургеневскими женщинами…»
С. Лесневский против попыток в угоду конъюнктуре принизить значение художника. «Гуманистический, объединяющий пафос вообще был характерен для Федина, — продолжает он, — и этот пафос — в современном преломлении — стал ведущим на саратовской конференции. Но тут не было ни “хрестоматийного глянца”, ни торжествующей банальности, ни гримировки под благополучного, утвержденного “классика”. Впрочем, сегодняшние статьи о Константине Федине далеки от благостности. “Писатель советского прошлого” — уже в заголовке приговаривает М. Чудакова, жестко выстраивая всю свою статью в “Литературной газете” под это определение, не подлежащее обжалованию, иногда вскользь отмечая, что Федин все-таки умел писать».
Дискуссии с той поры не затихали.
Богиня истории Клио, вообще говоря, теряет ориентиры, дуреет и слепнет в обстановке происходящей вокруг духовной свистопляски. Биография крупного художника, как ни верти, — наряду с прочим факт исторической науки. А именно с нею при резких переменах общественного устройства произошли болезненные метаморфозы.
Вот как характеризует происходившее один из историографов, Ю. Семенов, в своей работе «История (историология) как строгая наука»: «Но настоящий обвал доверия к исторической науке начался в период, получившей название перестройки. И он продолжается до сих пор. Самое печальное, пошел процесс не столько восстановления исторической истины, сколько новой неумеренной фальсификации прошлого. Провозглашался лозунг “деидеологизации” общественных наук вообще, исторической науки в частности. В действительности же шла “переидеологизация”, т.е. замена одной идеологии на другую, точнее, на множество других идеологий, объединенных разве только враждой к ранее господствующей. Доминировало стремление во что бы то ни стало втоптать в грязь не только старую общественную систему, но все, что при ней возникало и существовало. Считалось, что для этой цели все средства были хороши, включая самую откровенную ложь. Восторжествовал принцип: если раньше говорилось одно, то теперь надо утверждать прямо противоположное. В результате масштабы извращений событий прошлого не только превзошли все то, что делалось во время застоя, но и по меньшей мере сравнялись с объемом фальсификаций истории, совершавшихся в сталинскую эпоху».
В карнавальные огни и треск идеологических переплясов попадали, конечно, в первую очередь видные фигуры предыдущих эпох. По прокосам на лугах словесности вслед за старшими современниками двинулись порой и авторы уже иного поколения и творческих амбиций. В случае с Фединым так поступает в одной из публикаций, как всегда, бодро талантливый и вездесущий Дмитрий Быков.
«Федин беден» — так названа его журнальная статья 2009 года из затеянного им портретного обзора советских классиков. Будто донской атаман персидскую княжну, небрежно обхватив за талию, обозреватель сбрасывает этого автора с парохода истории «в набежавшую волну»… Из всего написанного Фединым соглашается признать лишь один роман — «Города и годы». Все остальное — скрип пера, а то и попросту мура, если попытаться подделаться под излюбленную Быковым частушечную манеру его газетных фельетонов. Зато уж «Города и годы» вознесены до небес и даже чуть выше.
Д. Быков — человек способный, любознательный, эрудированный, мне лично симпатичный. Читается почти всегда с интересом, но избыточный. Как он однажды сам о себе выразился, любящий, чтобы всего было много, как его самого. Если уж он чем увлекся, то остановиться ему трудно. Так происходит и на сей раз.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: