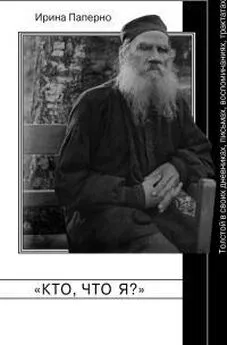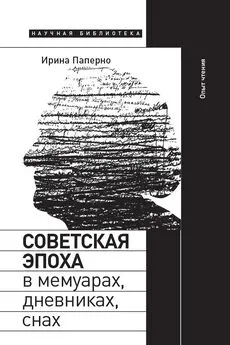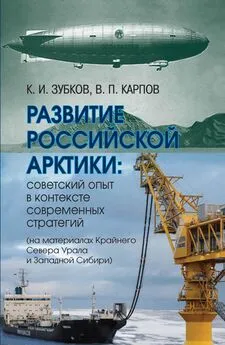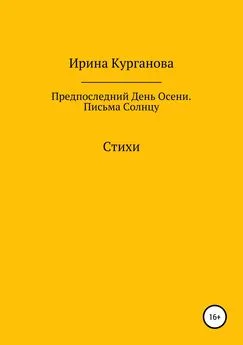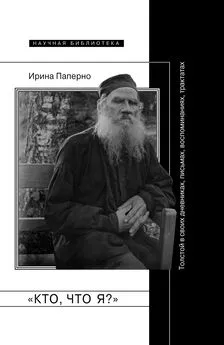Ирина Паперно - Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель
- Название:Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Паперно - Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель краткое содержание
Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В эссе «Поколение на повороте» (1979) Гинзбург обращается к опыту сталинизма и пытается объяснить «нынешним» то, что «нельзя объяснить», — эмоцию. Объясняя «молодым» — не пережившим «душевный опыт» революции — «социально–психологические механизмы» того явления, которое Гинзбург называет «совместимостью» (совместимостью с властью?), она говорит о «состоянии завороженности» в людях 1930‑х годов. При этом она пользуется категориями исторического сознания наполеоновской эпохи, окрашенного (как и слова «не по своей воле биография») пассивной катастрофичностью русского извода. На многих читателей произвели огромное впечатление следующие слова:
«Молодой Гегель, увидев Наполеона, говорил, что видел, как в город въехал на белом коне абсолютный дух. Я помню разговоры Бор. Мих. Энгельгардта. Совсем в том же, гегелевском, роде он говорил о всемирно–историческом гении, который в 30‑х годах пересек нашу жизнь (он признавал, что это ее не облегчило). Когда Сталин позвонил Пастернаку по поводу арестованного Мандельштама, Пастернаку трудно было сосредоточиться на этой теме. Ему хотелось что–то сказать и что–то услышать о смысле жизни и смерти. Пастернака упрекали, но надо помнить: телефонный провод соединял его в тот миг со всемирно–исторической энергией» [37].
Поясню биографический контекст: Борис Энгельгардт был выслан в 1930 году на Беломорканал; его жена (урожденная Гаршина) выбросилась из окна. Освобожденный в 1932 году, без права проживания в Ленинграде, Энгельгардт жил нелегально; там он и погиб, в блокаду. Для Энгельгардта, как и для Гинзбург, историзм был делом и личного опыта, и профессиональных занятий — он является автором работы «Об историзме Пушкина».
Историософский контекст слов о «завороженности» — это описанное Гинзбург «чувство конца старого мира». Она поясняет, что говорит «не о поддающихся логике соображениях (это само собой), но о глубинном переживании конца и необратимого наступления нового, ни на что прежнее не похожего мира…» [38]. Она рассуждает здесь в терминах гегельянско–марксистской эсхатологии.
Как и Герцен в «Былом и думах», Гинзбург пишет о переживаниях своего поколения с горькой иронией; как и Герцен, она пользуется гегельянской парадигмой, чтобы уяснить опыт прошлого. О себе самой Гинзбург мимоходом замечает: «…отношу себя к незавороженным» (объясняя это темпераментом — «отсутствием жизненного напора») [39]. Однако со свойственной ей беспощадностью к себе Гинзбург показывает себя читателю в «социальной жизни» своего поколения и своего круга — в гегельянских разговорах с Энгельгардтом, в интимном общении с «завороженными» (каковым она рисует Гуковского).
4
Образ абсолютного духа, или всемирно–исторического гения, который «пересек нашу жизнь», имеет свою генеалогию: в течение двух веков он широко используется как эмблема исторического сознания, восходящего к Гегелю. Попробуем реконструировать его многослойный смысл.
Гегель описал свою встречу с Наполеоном в оккупированной Йене в 1806 году в частном письме; этот эпизод стал известен в 1840‑е годы, когда гегельянец Карл Розенкранц поместил его в книге «Жизнь Гегеля» («Hegel’s Leben», 1844), которую читали по всей Европе. Процитирую это письмо в русском переложении, а именно так, как его переписал (из Розенкранца) в своем дневнике в 1844 году молодой Герцен. (В это же время Герцен слушал с восторгом гегельянские лекции Грановского.) Из дневника Герцена: «…когда французы взошли в Йену, он [Гегель] положил в карман рукопись и пошел искать пристанища <���…> Тут он видел Наполеона — diese Weltseele, как он говорит. «Странное чувство, — продолжает он, — видеть такое лицо: вот эта точка, сидящая на лошади, тут… царит миром»”. Герцен затем дополняет письмо Гегеля от себя: «И прибавить следует: в толпе едва заметная фигура, бедный профессор несет в кармане исписанные листы, которые не меньше будут царить, как приказы Наполеона. Жизнь!»[40] «Исписанные листы в кармане» — это рукопись только что законченной «Феноменологии духа».
Молодого Герцена занимает не столько величие Наполеона, сколько будущее величие и власть бедного профессора и его писаний. Для Герцена «встреча в Йене» — так я хочу назвать этот символический эпизод — это встреча двух воплощений абсолютного духа — Абсолютный Дух на коне и Абсолютный Дух в кармане, на исписанных листах. Этот фрагмент посвящен излюбленной русской интеллигенцией теме «Властитель и Писатель». (Заметим, что в 1844 году Герцен почти не обращает внимания на опасности, грозившие бедному профессору в разграбленной французами Йене, по которой он бродил в поисках пристанища.) При этом, переписывая и дописывая письмо Гегеля в своем дневнике, Герцен как бы обращает опыт Гегеля в свой собственный. (Вспомним, что на первых страницах «Былого и дум» он изобразит встречу отца, едва ли не свою собственную встречу, с вошедшим в Москву Наполеоном.) Кажется, что он думает не только о Гегеле, но и о своем будущем.
Следует заметить, что то, что я называю «йенской встречей», произвело сокрушающее впечатление не только на русских читателей. Карл Левит пишет в 1941 году в книге «От Гегеля до Ницше», что «активный историзм», владевший людьми постреволюционной и наполеоновской эпох вплоть до 1840‑х годов (до периода реакции), возродился в своем первоначальном, метафизическом значении для людей «фашистских революций» в Италии и Германии после Первой мировой войны. Левит рассматривает ницшеанский антиисторизм этих лет как реакцию на возрождение гегельянского историзма, хотя и негативную [41].
Русские читатели Гегеля (и Герцен после драм 1848–1852 годов, и те, что жили в советскую эпоху) понимали встречу интеллектуала с историей, воплощенной в фигуре властителя, по–своему. Думаю, что расхожий образ «человека, случайно попавшегося на дороге истории» — это вариант «встречи в Йене». В словах Герцена, подхваченных Гинзбург и другими интеллигентами советской эпохи, «встреча в Йене» переработана в картину «дорожной» катастрофы. (В своих записных книжках Гинзбург не раз употребляет слово «катастрофический опыт».) Сам Герцен за годы, описанные в «Былом и думах», и за время, в которое писались и переписывались его мемуары, не раз менял свое мнение о том, является ли человек активным двигателем или жертвой истории. В 1866 году, когда были написаны слова о человеке, попавшемся на дороге истории, после целого ряда исторических и личных поражений (революции 1848 года в Европе и «великих реформ» в России; драмы с Натали Герцен и с Натали Тучковой — Огаревой), Герцен был настроен пессимистически. Как же виделась встреча человека с историей спустя сто лет, советскому мемуаристу, возводившему свою «духовную генеалогию» к мемуарам Герцена?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: