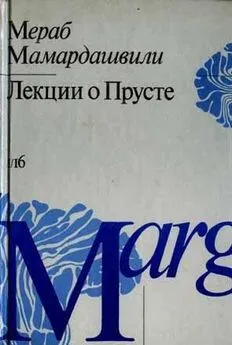Мераб Мамардашвили - Лекции по античной философии
- Название:Лекции по античной философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-9905505-7-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мераб Мамардашвили - Лекции по античной философии краткое содержание
ISBN 978-5-9905505-7-5
Редактор
Елена Мамардашвили
Публикуемые лекции Мераба Константиновича Мамардашвили (1930–1990) — один из курсов по истории философии, которые были прочитаны в 1978–1980 гг. студентам Всесоюзного государственного института кинематографии. Автор ставит перед собой задачу рассказать об истории философии как истории размышлений о предельных основаниях отношений человека и мира. В центре его внимания проблема бытия существующего, возникающая в пространстве древнегреческой мысли. Раскрывая бытие как нечто становящееся, автор прослеживает в размышлениях греческих философов фундаментальные принципы, лежащие в основаниях античного, а в последующем — европейского идеала мышления и понимания мира и человека.
В оформлении обложки использован фрагмент работы из серии «Пророки» ( 2001 г.) Эрнста Неизвестного.
© Е.М. Мамардашвили, 2009, 2016
© Фонд Мераба Мамардашвили, 2009, 2016
© Анна Грэм, 2016
Лекции по античной философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Независимо от того, были ли действительно ответы в школе Зенона, были ли они записаны и лишь потерялись, — независимо от этого проблема была явно в другом. Это, конечно, проблема времени и дискретности нашего сознания в той мере, в какой в области бытия, как раз в понятии бытия, мы имеем принцип понимания явлений мира, в том числе движения.
Вспомним, как ни странно, более пóзднее, Декарта. Декарт говорит: ну конечно же, у нас бывают мысли, факт, что бывают мысли. Так же как бывает, что человек бежит. Как вот, по-моему, Антисфен, выслушав апорию Зенона, доказывающую, что нет движения, встал и стал ходить, считая, что практическое осуществление действия — это лучшее доказательство, чем любые теоретические рассуждения. Ясно, конечно, что этим он не опроверг апорию Зенона. И якобы учитель того, кто продемонстрировал ногами факт движения, побил этого демонстратора за то, что он в интеллектуальную демонстрацию неприличным образом внес элементы, совершенно не относящиеся к рассуждению. То, что доказано рассуждением, должно быть опровергнуто только рассуждением. Так вот, Декарт тоже знает, что мысли (они тоже есть движение) существуют, приходят в голову.
Напомню один эпизод, который, казалось бы, никакого отношения к Зенону не имеет, но дело в том, что при всем различии словесного материала люди обсуждали одну и ту же проблему, и она действительно лежит в основах нашего мышления и нашей философии.
В двух книгах, посвященных Нильсу Бору (книге Мур и недавно вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» книге Данина [70]*), есть рассказ об одном эпизоде, который действительно был существенным в духовной жизни Нильса Бора, — об эпизоде чтения Бором книжки датского писателя Мёллера. Книжка называлась «Приключения датского студента» (датского студиозо); сам я этой книжки не читал, поскольку она на недоступном мне языке, а знаю по этим двум пересказам, довольно подробным. Этот студент на глазах читателя проигрывает одну из существенных апорий вообще всей идеи непрерывности (не знаю, ссылается ли он при этом на то, что это уже было у Декарта, но на Декарта он наверняка не ссылается, потому что это осталось скрытой и тайной стороной философии Декарта; ссылается ли он на Зенона или на Сократа, этого я тоже не знаю). Он делится с товарищем своей драмой, из-за которой он вообще утратил в последнее время способность не только что-либо писать, но и мыслить: «Слушай, я абсолютно и начисто запутался, вдумайся, что значит, что мы мыслим? “Мыслим” означает, что мы движемся в каком-то направлении, к какому-то предмету. Так, но если мы движемся в направлении к какому-то предмету, то это означает, что в каком-то виде мы знаем этот предмет или знаем это направление. Следовательно, любой акт мысли уже содержит в себе прошлую свершившуюся бесконечность, потому что если я иду в каком-то направлении, знаю предварительно направление, значит, я могу разложить это на бесконечные части, уже свершившиеся, и тем самым я не могу двигаться! Мыслью двигаться. Чтобы узнать что-то, я должен знать то, что я хочу узнать. Значит, уже все свершилось. И как вообще можно мыслить? Да и мое рассуждение само содержит в себе парадокс, потому что, чтобы мыслить об этом парадоксе, открыть его, нужно к нему двинуться, а раз двинулся, значит, в каком-то виде направление уже обозначено и, значит, уже свершились те бесконечные моменты жизни, которые можно суммировать. Суммируем — стоим на месте». На это коллега ему говорит: «Послушай, я тоже ничего не понимаю, ведь пока ты говоришь о том, что движение мысли невозможно, твоя-то мысль движется и скачет во всех направлениях?!» — «Да, черт возьми, — снова вступает в разговор студент, — <���двинусь> в прошлое — там завершенная бесконечность (то есть каждая мысль в данный момент содержит в себе всю свершившуюся бесконечность прошлого) и вперед — в свершившееся и завершенное будущее».
Этот парадокс существует в сократовском выражении (я не говорю пока о Зеноне, хотя «перекидки» на апорию «Ахиллес» текстуально совершенно очевидны из материала, который я излагаю). Сократ уж никак не может быть приписан ни к Пармениду, ни к Зенону: известно, что Сократ этими вещами не занимался, и вообще слово «бытие» у Сократа совершенно отсутствует, а тем более понятие какой-либо непрерывности. К логике и математике Сократ не имел ровным счетом никакого отношения, но тем не менее этот же парадокс известен и в сократовском варианте. Он у Сократа выражен проще и скромнее, но с не меньшей основательностью. Сократ говорит простую вещь: что значит «мы знаем что-то», «узнаём что-то» (то есть это движение). Я не знаю, я узнаю (движусь). Как показывал Декарт, это ведь во времени происходит. Допустим, я решаю задачку: раз, два, три, четыре, пять, шесть шагов — и решил. Но, говорит Сократ, ведь я должен решение узнать в качестве решения. Вспомните то, что я говорил об уме, который есть параллельный, или дополнительный, феномен, или элемент, или дополнительное состояние, мышления. Еще узнать нужно. Узнавание силлогизма (то есть правильности силлогизма) не входит в содержание самого силлогизма и в качестве содержания силлогизма и связи между шагами силлогизма не описывается. Сократ говорит: если я узнаю решение в качестве решения или знание в качестве знания, значит, я его уже имел. Вот в сократовской форме этот парадокс.
У Сократа он стоял в связи с теорией воспоминания, припоминания (это вещь, которую мы должны будем рассмотреть в связи с Платоном, потому что у него более развитое выражение этой теории), в которой в каком-то смысле считается, что наше знание, как следы прошлых встреч души с богом, хранится в нашей душе и что в действительности мы ничего нового не узнаём, а лишь вспоминаем: нечто всплывает из глубин нашей души. И у Платона, наряду со многими великолепными мифами, которыми он косвенно и символически передает свою мысль, есть еще и миф о мальчике-рабе, миф о воспоминании, где Платоном строится мифологическая сцена, в которой Сократ, беседуя с мальчиком, выуживает из глубины его души лежавшее там знание теоремы Пифагора. Но дело в том, что это уже, как ни странно, ответ на парадокс. Вообще-то, странный ответ, не являющийся ответом, но мы попытаемся об этом ответе говорить уже в связи с Платоном: почему здесь возникает идея прирожденности знаний, и в каком смысле прирожденности, и почему действительное новое знание есть не вновь узнавание чего-то, а воспоминание? У Платона сказано: воспоминание не просто каких-то фактов или обстоятельств жизни, а воспоминание встреч души с богом в прошлых ее блужданиях.
А пока вернемся к Зенону. Я фактически пока лишь сказал, что, во-первых, есть парадокс, во-вторых, он есть не у одного Зенона. Этот парадокс — некая повторяющаяся загадка и одновременно основание нашего мышления. Я привел ее на примере парадокса датского студиозо. Есть один интересный факт в биографии Бора (собственно, потому рассказ о книжке малоизвестного датского писателя и сохранился, что в личной интеллектуальной биографии Бора этот эпизод — с датским студентом — имел чрезвычайные последствия: осмысление этого эпизода и этой проблемы легло вообще в основание интеллектуального облика и стиля Нильса Бора как физика, который, как известно, сделал немаловажные открытия в XX веке): из-за размышлений над этим парадоксом он одно время собирался заняться философией, а не физикой, написать трактат по эпистемологии, по теории познания, где он как раз хотел раскрутить этот парадокс, а потом воспоминание о нем и печать, которая этим парадоксом была наложена на духовный облик Бора, сыграли свою роль в возникновении идеи дополнительности в физике, в квантовой механике XX века.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: