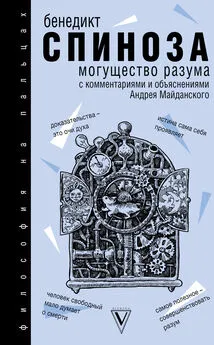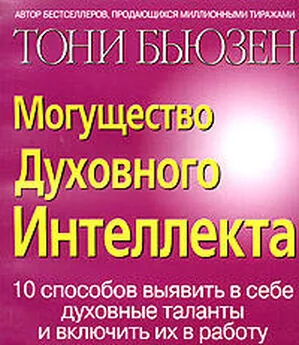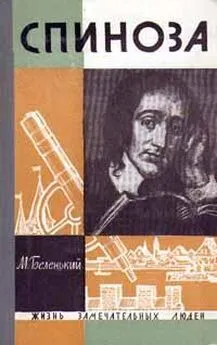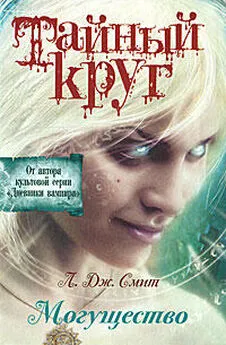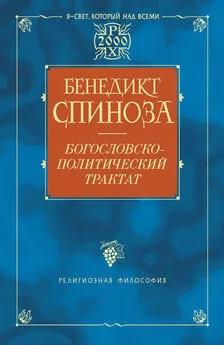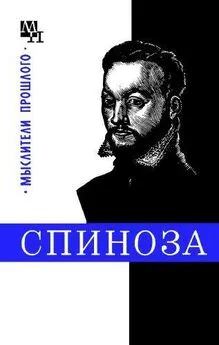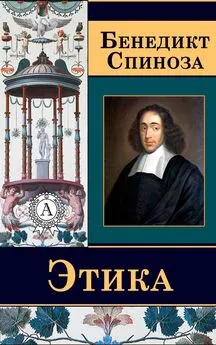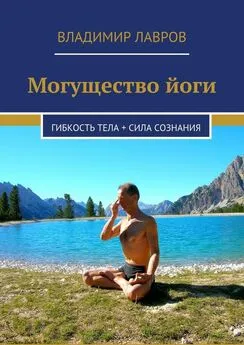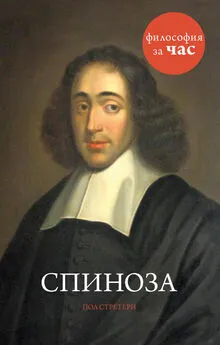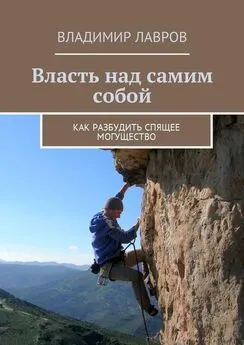Бенедикт Спиноза - Могущество разума
- Название:Могущество разума
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-112346-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бенедикт Спиноза - Могущество разума краткое содержание
Могущество разума - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
19. Благорасположение есть любовь к кому-либо, кто сделал добро другому.
20. Негодование есть ненависть к кому-либо, кто сделал зло другому.
Объяснение.Я знаю, что эти названия в обыкновенном словоупотреблении обозначают нечто другое. Но моя цель – объяснять не значение слов, а сущность вещей и обозначать их названиями, обыкновенное значение которых не расходилось бы совершенно с тем, которое я хочу придать им; пусть это и будет замечено раз навсегда (см. о причине этих аффектов кор. 1 т. 27 и сх. т. 22 этой части).
Вариация на тему первого «правила жизни», установленного в TIE: по возможности приноравливаться к языку и обычаям толпы (§ 17). При этом можно и нужно изменять значения слов так, как того требует «сущность вещей». Если, например, привычные окружающим людям слова «Бог» или «бессмертие» и «спасение» души вызывают аффекты, благоприятствующие разумному познанию и поведению, то философу имеет смысл ими воспользоваться. Придавая этим словам иные значения, более соответствующие природе вещей, философ исправляет язык толпы и облегчает ей восприятие истины.
‹…›
Аффект , называемый страстью души , есть смутная идея, в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части и которой сама душа определяется к мышлению одного преимущественно перед другим.
Объяснение.Я говорю, во-первых, что аффект, или страдательное состояние духа, есть «смутная идея», ибо мы показали (см. т. 3), что душа пассивна только постольку, поскольку имеет идеи неадекватные или смутные. Далее я говорю: «в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части», так как все наши идеи о телах (по кор. 2 т. 16, ч. II) более указывают состояния нашего тела, чем природу тела внешнего; та же идея, которая составляет форму аффекта, должна указывать или выражать состояние тела или какой-либо его части, которое имеет тело или какая-либо его часть вследствие того, что его способность к действию, иными словами, сила существования, увеличивается или уменьшается, способствуется или ограничивается. Но должно заметить, что, когда я говорю «большую или меньшую, чем прежде, силу существования», я не подразумеваю, что душа сравнивает настоящее состояние тела с прошедшим, но что идея, составляющая форму аффекта, утверждает о теле что-либо, на самом деле заключающее в себе более или менее реальности, чем прежде. А так как сущность души (по т. 11 и т. 13, ч. II) состоит в том, что она утверждает действительное существование своего тела, и так как под совершенством мы разумеем самую сущность вещи, то отсюда следует, что душа переходит к большему или меньшему совершенству тогда, когда ей случается утверждать о своем теле или какой-либо его части что-нибудь такое, что заключает в себе более или менее реальности, чем прежде. Поэтому, сказав выше, что способность души к мышлению увеличивается или уменьшается, я хотел разуметь под этим только то, что душа образовала о своем теле или какой-либо его части идею, выражающую более или менее реальности, чем она прежде утверждала о своем теле. Ибо превосходство идей и действительная (актуальная) способность к мышлению оцениваются по превосходству объекта. Наконец, я прибавил: «и которой сама душа определяется к мышлению одного преимущественно перед другим», для того чтобы кроме природы удовольствия и неудовольствия, которую выражает первая часть определения, выразить также и природу желания.
В третьей части «Этики» речь шла в основном о пассивных аффектах, или «страстях души», проистекающих из смутных идей. Термин «пассивный», повторим, не следует понимать в том смысле, будто душа бездействует. Напротив, охваченный страстью человек может действовать с необычайной энергией, отдавать делу все свои душевные и физические силы… Вопрос в том, раскрывается ли в трудах и поступках индивида присущая ему человеческая природа – или же ими правят силы, чуждые и противные этой природе? Укрепляется или разрушается существование данного индивидуума? Расширяется или сужается круг его творческих возможностей и способностей? Чтобы решить это, необходимо исследовать предметное содержание наших мыслей – «ибо превосходство идей и действительная способность к мышлению оцениваются по превосходству объекта».
Часть четвертая
О человеческом рабстве, или о силах аффектов
Человеческое бессилие в укрощении и ограничении аффектов я называю рабством. Ибо человек, подверженный аффектам, уже не владеет сам собой, но находится в руках фортуны, и притом в такой степени, что он, хотя и видит перед собой лучшее, однако принужден следовать худшему. Я намерен показать в этой части причину этого и раскрыть, кроме того, что имеют в себе аффекты хорошего и дурного. Но, прежде чем приступить к этому, я хочу предпослать несколько слов о совершенстве и несовершенстве и о добре и зле .
Кто предложил сделать что-либо и сделал, тот назовет это совершенным , и не только он сам, но и всякий, кто верно знает мысль и цель этого произведения или думает, что знает их. Если, например, кто-нибудь увидит какое-либо произведение (я предполагаю его еще не оконченным) и узнает, что цель творца его построить дом, тот назовет этот дом несовершенным и, наоборот, – совершенным, как только увидит, что дело доведено до конца, предположенного задумавшим его. Если же кто видит какое-либо произведение, подобного которому он никогда не видал, и не знает мысли его творца, то он, конечно, не может знать, совершенно ли это произведение или нет. Таково, кажется, было первое значение этих слов.
Но после того, как люди начали образовывать общие идеи и создавать образцовые представления домов, зданий, башен и т. д. и предпочитать одни образцы вещей другим, то каждый стал называть совершенным то, что ему казалось согласным с общей идеей, образованной для такого рода вещей, и, наоборот, – несовершенным то, что казалось менее согласным с составленным для него образцом, хотя бы оно, по мысли творца, и было вполне законченным. На том же самом основании, кажется, обыкновенно называют совершенными или несовершенными вещи естественные, т. е. те, которые не произведены человеческой рукой: люди имеют ведь обыкновение образовывать общие идеи как для искусственных вещей, так и для естественных, эти идеи считают как бы образцами вещей и уверены, что природа (которая, по их мнению, ничего не производит иначе, как ради какой-либо цели) созерцает их и ставит себе в качестве образцов. Поэтому когда они видят, что в природе происходит что-либо, не совсем согласное с составленным для такого рода вещей образцом, то они уверены, что сама природа оказалась недостаточно сильной или погрешила и оставила эту вещь несовершенной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: