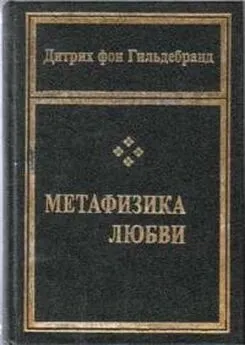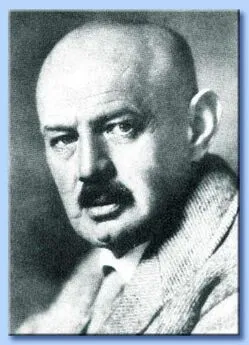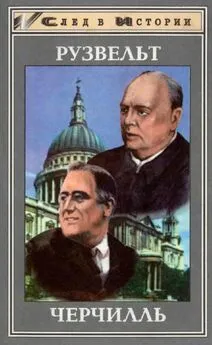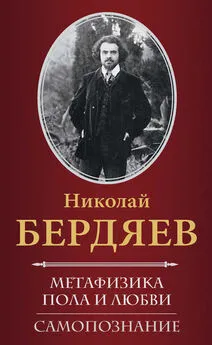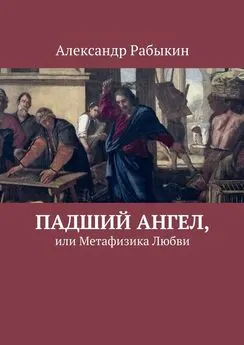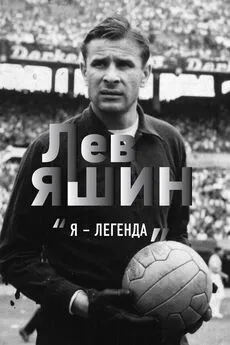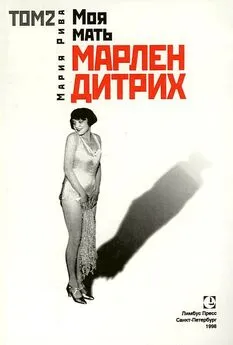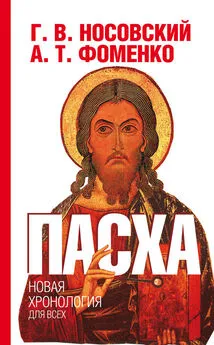Дитрих Гильдебранд - Метафизика любви
- Название:Метафизика любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1999
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дитрих Гильдебранд - Метафизика любви краткое содержание
Перевод с немецкого сделан по последнему прижизненному изданию 1971 года. На русский язык переводится впервые.
Метафизика любви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В желании исходить из поверхностной понятности – или добиться ее – полагают, что в случае любви интерес к другому человеку и солидарность с ним необходимо выводить из «себялюбия» – из данной от природы солидарности с самим собой. Любовь к другому человеку, основанная на солидарности с самим собой, может показаться понятнее, убедительнее. Это типичный случай «отступления» перед данностью, отказ от qaumazeinи предпочтение поверхностной понятности, когда, не проникая в сущность данности, ничего о ней не зная, думают, что нашли ей объяснение.
В действительности сущность любви заключается в том, что человек может заинтересоваться другим человеком, в результате чего возникнет солидарность подобная той, которая имеет место по отношению к собственной персоне. То, что в случае любви к другому человеку является следствием, «заслугой» любви, ложно принимается за причину и источник любви к себе, когда речь идет о собственной личности. В последнем случае солидарность не является ни следствием, ни причиной любви – она просто по сути своей основана на свойствах человеческой природы. Такую солидарность с самим собой можно условно называть «любовью» только потому, что в ней по аналогии с солидарностью вообще можно имплицитно усмотреть элемент любви.
Невозможность вывести любовь к другому человеку из «себялюбия», т. е. из солидарности с самим собой, станет особенно очевидной, если мы сравним с любовью к другому человеку такую солидарность с другим человеком, которая действительно является продолжением солидарности с самим собой. Типичным примером такой солидарности является позиция мужа, который не любит свою жену и даже третирует ее, однако крайне чувствителен к посягательствам на ее достоинство со стороны других, поскольку считает ее частью себя. То обстоятельство, что она его жена, вовлекает ее в сферу его солидарности с самим собой, он воспринимает оскорбления в ее адрес как относящиеся к нему – не потому, что он ее любит, а потому, что рассматривает ее как продолжение своего «я». То же самое наблюдается и в поведении хозяина, который совершенно не любит своих слуг и плохо с ними обращается, но воспринимает как личное оскорбление пренебрежительное отношение к ним постороннего.
Такая солидарность явно отличается от той, которая основана на любви. Во-первых, она проявляется не в «я-ты»-отношении к другому человеку. Отсюда плохое отношение мужа к жене или хозяина к слугам. Здесь нет интереса к благополучию и счастью другого лица. Солидарность пробуждается только тогда, когда дело касается поведения постороннего человека по отношению к жене или слугам. При этом здесь имеет место чистое «мы»-объединение с женой или слугами. Такое «мы»-объединение, однако, в отличие от многих других мы-объединений представляет собой лишь продолжение собственного «я», дополнительный аспект себялюбия. Эта роль жены или слуг как продолжения «я», естественно, ограничивается случаями, когда эти люди вступают в отношения с третьим лицом, т. е. мы-измерением. Напротив, их роль как расширенного «я» прекращается, как только человек начинает относиться к ним как к «ты»-объектам.
В противоположность этому, солидарность, представляющая собой плод любви, проявляется главным образом в «я-ты»-ситуациях, во встрече с другим человеком В такой солидарности мы ни в коем случае не смотрим на другого человека как на продолжение собственного «я»; полностью тематичен его «ты»-характер. Очевидно, что столь же мало имеет общего с расширенным «я» и то «мы», которое вырастает из любви и в котором заключается такая же солидарность, как и в «я-ты»-отношении.
Во-вторых, солидарности, являющейся результатом расширения «я», совершенно не свойственна преданность, благожелательство – а это как раз те элементы, которые характеризуют солидарность, вытекающую из любви.
Нетрудно видеть, что солидарность с другим человеком, состоящую исключительно в том, что мы рассматриваем его как продолжение собственной персоны, как часть нас самих, отделяет целая пропасть от солидарности, проистекающей из любви и заставляющей любящего говорить: все радующее тебя радует и меня, а все причиняющее тебе боль причиняет страдания и мне. Именно это сравнение солидарности, состоящей в том, что другой человек рассматривается как часть нас самих, с удивительной, благородной солидарностью, вырастающей из любви, отчетливо показывает нам, что совершенно нелепо выводить имманентную любви заинтересованность из солидарности с самим собой.
Кажется таким убедительным следующее рассуждение. – Данная нам от природы принадлежность самим себе с необходимостью обусловливает интерес к нам самим; таким образом, ключ к заинтересованности другим человеком, свойственной любви, также следует искать в его принадлежности нам, в его роли быть частью нас самих. Однако это ложное умозаключение. Солидарность, являющаяся результатом любви, не может быть ее основанием. Солидарность с собственной персоной является чем-то само собой разумеющимся, даже неизбежным и, кроме того, не может быть «объяснением» любви к другому человеку уже потому, что она и в отношении собственного «я» не служит причиной любви в подлинном смысле этого слова.
При ближайшем рассмотрении этих двух данностей – любви и солидарности с самим собой – мы ясно видим, что попытка вывести любовь и внутренне присущий ей интерес к другому человеку из «себялюбия» совершенно бессмысленна и никоим образом не делает более понятной любовь к другому человеку. Тем самым мы обходим таинство любви, но при этом достигаем лишь кажущегося , рационального объяснения внутренне присущего любви интереса.
Было бы трудно понять, зачем при анализе любви предпочитают явно данный феномен любви к другому человеку чисто аналогичному феномену любви к себе, если бы не существовало широкораспространенной тенденции обходить стороной qaumazeinи прибегать к кажущемуся убедительным «объяснению», которое можно получить, не углубляясь в сущность объекта [6] Только после того, как исследована сущность любви, можно выяснять, в каком смысле следует говорить о любви к себе, какие существуют ее виды, в каких случаях это понятие можно использовать только по аналогии, а в каких – в более прямом смысле.
.
Метафизически низкое положение – гарантия очевидности?
С этим стремлением к плоской понятности тесно связан еще один предрассудок, мешающий адекватному исследованию любви. Это убежденность в том, что для понимания более высокого необходимо подниматься к нему с онтологически более низкой ступени. В другом месте я указал на тенденцию новейшей философии, заключающуюся в том, что к тому или иному явлению относятся тем серьезнее, чем ниже оно находится в онтологическом смысле. Мыслителям, исповедующим это, инстинкт представляется чем-то более основательным, несомненным, чем такие духовные акты, как любовь, радость и т. д. Соматическое кажется им более бесспорным, нежели все психическое. Вместо того чтобы связывать очевидность существования объекта с непосредственностью его данности и с его интеллигибельностью, выдвигают в качестве критерия очевидности существования объекта его низкое онтологическое положение [7] «Qu'on nous montre dans la nature, ou dans I'instinct, les esquisses grossieres de fails 'spirituelles', aussitot nous croyons tenir unc explication de ces faites. Le plus bas nous parait le plus vrai. C'est la superstition du temps, la manie de 'ramener' le sublime a 1'infime, 1'etrange erreur qui prend pour cause suffisante une condition simplement necessaire. C'est aussi le scrupule scientifique, nous dit on. 11 fallait cela pour affranchir 1'esprit des illusions spiritualistes... Curieuse maniere de liberer 1'esprit, qui se 'rainene' a le nier». Denis de Rougemont: L'AmouretL'Occident, Paris 1939, стр. 49. (Если нам указывают в природе или в инстинкте на факты «духовного», то мы уверены, что можем дать им объяснение. Иерархически наиболее низкое представляется нам наиболее истинным . Это предрассудок нашего времени, мания «сводить» высшее к низшему, странное заблуждение, когда простое необходимое условие принимают за достаточное основание. Это научная тщательность, говорят нам. Это было необходимо, чтобы освободить дух от спиритуалистских иллюзий... Любопытный способ освобождения духа, «сводящийся» к его отрицанию).
.
Интервал:
Закладка: