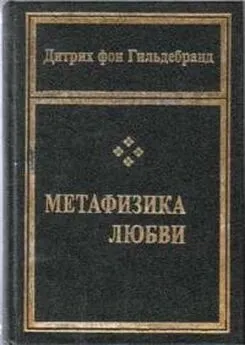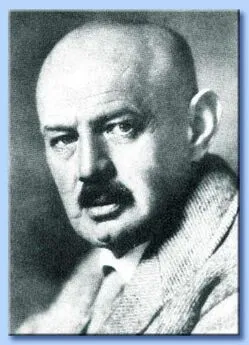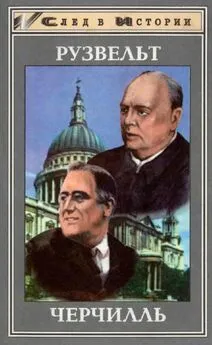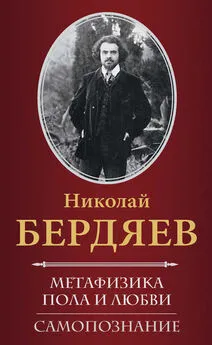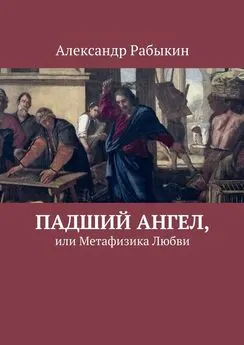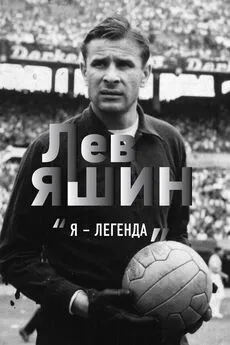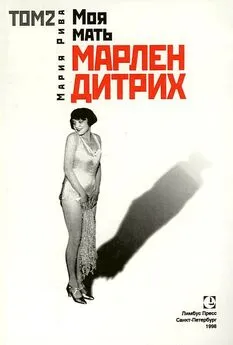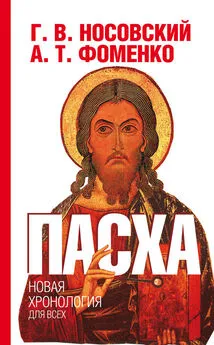Дитрих Гильдебранд - Метафизика любви
- Название:Метафизика любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1999
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дитрих Гильдебранд - Метафизика любви краткое содержание
Перевод с немецкого сделан по последнему прижизненному изданию 1971 года. На русский язык переводится впервые.
Метафизика любви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разумеется, бывает и так, что мы только по прошествии некоторого времени вживаемся в такую «духовную родину», – когда мы можем в ней обосноваться, только пожив продолжительное время в соответствующей обстановке. Так, например, для Винкельмана родиной был Рим; Вена стала родиной для Шлегеля. Когда мы говорим о «чувстве родины» как о первичном феномене, то при этом имеем в виду не «буквальное», а то, что является общим для религиозной родины, духовной родины и родины в буквальном смысле: укорененность, родственность, защищенность. Ибо состояние натурализации основано на метафизическом положении человека. Необходимость «защищенности», с одной стороны, связана с тварностью, а с другой – с личностной природой человека. Существуют попытки жить без защиты, но они иллюзорны. Без защищенности не может быть никакого истинного счастья, раскрепощенной жизни, прежде всего – никакой жизни в истине. Такая жизнь была бы истинной только до определенного предела, ведь незащищенность переживалась бы как отчаяние.
Разумеется, истинная, окончательная защищенность – это укрытость в Боге, в Его любви. Но существует много аналогичных «защищенностей» и в тварном мире. Развитие человека от его рождения до относительной самостоятельности также демонстрирует нам классическую роль защищенности. Чувство защищенности является одним из основных переживаний ребенка. Как авторитет родителей – это прообраз авторитета Бога, так и защищенность в семье является отдаленным отражением защищенности в Боге. Но первичным феноменом человеческой психики является не только чувство защищенности, в ее структуре коренится не только потребность в защите, – характер «первичного феномена» также имеет и «чувство родины», которое, как мы видели, включает в себя защищенность. Сущность человека составляет и укорененность в чем-либо, состояние натурализации. Даже если человек не имеет родины в буквальном смысле, например, в том случае, если его родители постоянно переезжали из страны в страну и брали его, когда он был ребенком, с собой, а когда он вырос, то и сам менял свое местожительство, то все равно ему знакомо чувство родины в духовном смысле. Как я писал в своей книге «Метафизика социального», каждый человек включен в сферу определенных объектов и ценностей, как, например, все отношения с другими людьми принадлежат общей ценностной сфере. И та основная сфера, в которую он включен, и есть его духовная родина, там он и дышит воздухом родины. Для ученого духовной родиной является мир науки: в нем он чувствует себя как дома, там его радостно принимают и «защищают». Точно так же для художника «родиной» является мир искусства. Однако включение в сферу определенных объектов и ценностей происходит не только в профессии, которая заполняет всего человека, которой он полностью отдается. В аналогичную сферу включен каждый человек. Для этого достаточно, чтобы он был особым образом подчинен какой-либо ценностной и объектной сфере и разбирался в ней.
«Homo religiosus» – это такой человек, который натурализован прежде всего в религиозной сфере – и притом субъективно, поскольку объективно этой сфере подчинен, естественно, каждый человек.
Этих замечаний достаточно, чтобы подчеркнуть классическое значение «чувства родины». Человек с неизбежностью имеет родину, и то «мое», что заключено в переживании ее, является полноценным «моим» особого рода. В таком «моем» нет опасности перверсии в смысле расширенного или преувеличенного «я», с которой мы сталкиваемся в национализме. Наоборот, в чувстве родины, в возникающем из последнего «моем» содержится элемент благодарности, связи нашего «я» с объемлющей нас действительностью, при этом мы не столько являемся ее частью, сколько ощущаем свою укорененность в ней, защищенность. Защищенность – это нечто противоположное гордыне: в отличие от самовозвеличивания, от иллюзорного чувства собственной силы и безопасности в ней заключается признание потребности в прибежище, в ощущении своей безопасности как результата того, чем мы сами не являемся.
Такое «мое», основанное на чувстве родины, четко отличается, как мы ясно видим, от «моего», связанного с тем, что нечто является частью меня, а также от «моего», обусловленного обладанием. Но оно отлично и от «моего» «причастности» к чему-либо, «принадлежности», так же как и от «моего», основанного на подчинении вышестоящему. Несомненно, оно имеет больше общего с последним, чем с двумя первыми. Однако оно представляет собой нечто новое и по сравнению с последним. Нас не должно вводить в заблуждение то обстоятельство, что оно часто идет рука об руку с «моим» принадлежности к чему-либо. Мы уже неоднократно отмечали, что совместное проявление, своего рода «симбиоз», не снимает различия между соответствующими вещами. Воля всегда связана с мыслью, она не проявляется без последней, и тем не менее они резко отличаются друг от друга. Совместно проявляться и иметь ярко выраженную связь могут даже совершенно противоречащие друг другу вещи: к примеру, гордыня закрадывается в такие установки, которые совершенно противоположны ей. Но даже в том случае, когда вещи по своей сущности совершенно не противоречат друг другу и к тому же органически взаимосвязаны, их не следует только по этой причине считать тождественными.
«Мое» родителей, «мое», основанное на принадлежности к нации, может быть столь органически взаимосвязано с «моим», заключенным в чувстве родины, что это будет единым переживаемым «моим». И все же «мое», возникающее из причастности, отличается от «моего», обусловленного чувством родины. Мы ясно это видим в тех случаях, когда оно проявляется без связи с чувством родины.
«Мое», возникающее из любви
Теперь мы должны обратиться к важнейшему в нашем контексте «моему», а именно к «моему», возникающему из любви, которое по сравнению со всеми вышеупомянутыми представляет собой нечто совершенно новое. Это «мое» основано исключительно на том факте, что нечто благодаря своей ценности и особой близости мне становится для меня объективным благом, входит в мою личную жизнь.
Такое «мое» радикально отличается от первого типа «моего» – естественной, нерасторжимой связи с самим собой. Когда я не только ценностноответно отдаю должное какой-нибудь стране, произведению искусства или другому объекту, но и из-за их красоты отвожу им в своей душе особое место – когда я их люблю, – то в этом случае из такой любви возникает определенное «мое». Здесь ясно видно отличие от естественной солидарности. В случае последней объект приобретает значение благодаря тому, что он мой. В нашем случае он становится моим потому, что я люблю его из-за его ценности. То же самое различие наблюдается и в случае «моего», основанного на том, что объект важен для меня лишь постольку, поскольку он является моей собственностью: также и в этом случае мы имеем расширенное «я» – в случае же «моего», возникающего из любви, нет никакого расширенного «я» – «мое» является результатом ценностного ответа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: