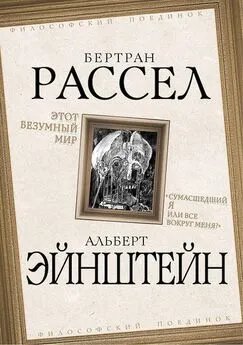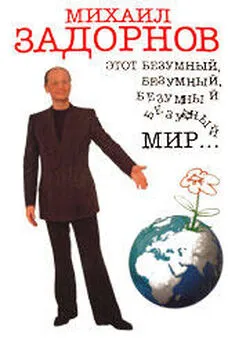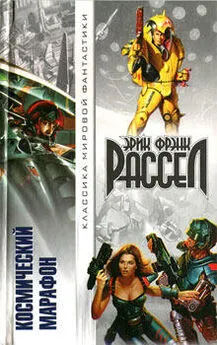Бертран Рассел - Этот безумный мир. «Сумасшедший я или все вокруг меня?»
- Название:Этот безумный мир. «Сумасшедший я или все вокруг меня?»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Родина
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907255-38-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бертран Рассел - Этот безумный мир. «Сумасшедший я или все вокруг меня?» краткое содержание
Альберт Эйнштейн, помимо своих выдающихся работ по физике, много писал о проблемах социологии и политики, а также всю жизнь живо интересовался вопросами философии.
Оба ученых довольно скептически относились ко многим сторонам развития современного мира; не случайно Эйнштейн вопрошал: «Сумасшедший я или все вокруг меня?». В данную книгу вошли наиболее значимые статьи Эйнштейна и Рассела, посвященные общественной проблематике.
Этот безумный мир. «Сумасшедший я или все вокруг меня?» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сложность, конечно, состояла в том, чтобы узнать, кто является избранным. В мире, в котором доктрина Фихте была бы повсеместно принята, каждый человек думал бы, что он «благородный», и присоединился бы к определенной партии людей, подобных ему самому, чтобы разделить часть своего величия. Эти люди могут принадлежать к его нации, как в случае с Фихте, или к его классу, как это происходит у коммунистического пролетариата, или к его семье, как у Наполеона. Не существует объективного критерия «благородства», кроме успеха в войне, поэтому война — необходимый результат этой доктрины.
Мировоззрение Карлейля в основном выводимо из мировоззрения Фихте, который имел на него сильное и единовластное влияние. Но Карлейль добавил нечто, что с тех пор стало характерной чертой всей школы: разновидность социализма и заботу о пролетариате, в основе которой на самом деле лежала неприязнь к капитализму и нуворишам. Карлейль делал это так хорошо, что ввел в заблуждение даже Энгельса, чья книга об английском рабочем классе 1844 г. упоминает его с наилучшей похвалой. Учитывая это, мы едва ли можем удивляться тому, что множество людей поверили в социалистический фасад национал-социализма.
Карлейль на самом деле все еще продолжает одурачивать людей. Его «культ героя» звучит очень возвышенно. Мы нуждаемся, говорит он, не в выборах парламента, а в «королях-героях, да и весь мир не без героев». Чтобы понять это, нужно изучить воплощение данных идей в действительности. Карлейль в книге «Прошлое и настоящее» показывает аббата XII в. Самсона как пример, но любой человек, не желающий принимать это на веру, прочитав «Хроники Жослина Бракелонда», обнаружит, что аббат был беспринципным негодяем, сочетавшим в себе пороки деспотичного лендлорда с недостатками мелочного крючкотворца-стряпчего.
Другие герои Карлейля по меньшей мере так же сомнительны. Кромвелевская резня в Ирландии подвигла его на следующее замечание: «Но во времена Оливера (Кромвеля) продолжала существовать вера в Божью кару, во времена Оливера не было еще безумной тарабарщины „упразднения Главного наказания“, жан-жаковской филантропии, и всеобщая притворная чувствительность в этом мире все еще так же полна греха… Только в последнем декадентском поколении… может быть, такая беспорядочная мешанина Добра и Зла во всеобщую слащавость окажет воздействие на нашу землю». О большинстве других его героев, таких как Фридрих Великий, д-р Франсиа и губернатор Ирландии, необходимо сказать, что их общей характеристикой была жажда крови.
Те, кто все еще думают, что Карлейль был в некотором смысле более или менее либералом, должны прочесть его главу о демократии в книге «Прошлое и настоящее». Большая ее часть занята восхвалением Вильгельма Завоевателя и описанием славной жизни, которой наслаждались крепостные в его время. Затем следует определение свободы: «Истинная свобода человека состояла в том, чтобы понять правильный путь (или его силой заставляли понять этот путь) и идти по нему». Затем он переходит к утверждению, что демократия «означает отчаяние найти героев, чтобы управлять народом, и довольствуется только желанием иметь их».
Глава заканчивается утверждением, сделанном красноречивым пророческим языком, о том, что когда демократия исчерпает свое существование, все равно останется проблема, а именно «поиск правительства вашими Истинными Руководителями». Есть ли во всем этом хоть одно слово, под которым бы не подписался Гитлер?
Мадзини был более умеренным человеком, чем Карлейль, с которым он расходился во мнениях по поводу культа героев. Не отдельный великий человек, но нация была объектом его поклонения, и несмотря на то, что он ставил Италию выше всех, он отводил определенную роль и каждой европейской нации, за исключением ирландской. Тем не менее, Мадзини, как и Карлейль, полагал, что долг должен быть превыше счастья, даже всеобщего счастья. Он думал, что Бог открыт для любого человека, что правильно; необходимо только, чтобы каждый подчинялся закону морали так, как он его чувствует в своем собственном сердце. Мадзини никогда не сознавал, что разные люди могут искренне по-разному понимать предписания морального закона, или что он на самом деле требует того, чтобы другие действовали в соответствии с его откровением.
Он ставил мораль над демократией, говоря: «Простое голосование большинства не утверждает верховную власть, если оно очевидно противоречит высшим моральным заповедям… воля людей священна, когда она толкует и применяет моральный закон, она недействительна и бессильна, когда отделяет себя от закона и только представляет капризы». Это также мнение и Муссолини.
Один-единственный важный элемент был с тех пор добавлен к доктрине этой школы, а именно: псевдодарвинистская вера в «расу». (Фихте сделал немецкое превосходство вопросом языка, а не биологической наследственности.) Ницше, который, в отличие от своих последователей, не был националистом или антисемитом, применял теорию только в отношении различных индивидуумов: он хотел, чтобы неполноценным людям препятствовали иметь детей, и надеялся, с помощью методов собаковода, вывести расу сверхлюдей, у которых будет вся власть, и для чьей только пользы будет существовать остальное человечество. Но в дальнейшем писатели с похожими взглядами пытались доказать, что все превосходное связано с принадлежностью к их собственной расе.
Ирландские профессора пишут книги, чтобы доказать, что Гомер был ирландцем; французские антропологи предоставляют свидетельства того, что кельты, а не тевтоны, были источником цивилизации в Северной Европе; Хьюстон Чемберлен доказывает во всех подробностях, что Данте был немцем, и что Христос не был евреем.
Подчеркивание расы было повсеместным среди англо-индусов, от которых империалистическая Англия подхватила эту заразу благодаря Редьярду Киплингу. Вместе с тем антисемитские настроения никогда не были значимы в Англии, хотя англичанин Хьюстон Чемберлен был по большей части ответственен за создание фальшивого исторического базиса для этих настроений в Германии, где они существовали еще со времен средневековья.
О расе, если в это понятие не вмешивать политику, достаточно было бы сказать, что ничего политически важного о ней не известно. Как вероятность можно принять то, что существуют генетические психические различия между расами, но определенно можно сказать, что мы еще не знаем, в чем эти различия заключаются. Во взрослом человеке влияние окружающей среды скрадывает наследственность. Более того, расовые различия среди различных европейцев не столь явны, как между белыми, желтыми и черными людьми.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: