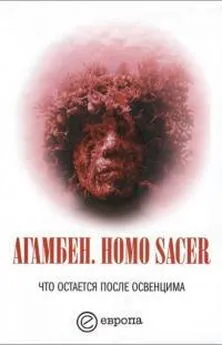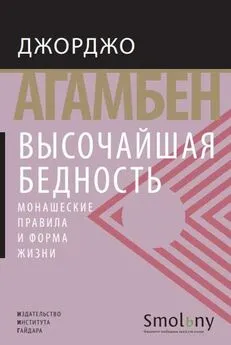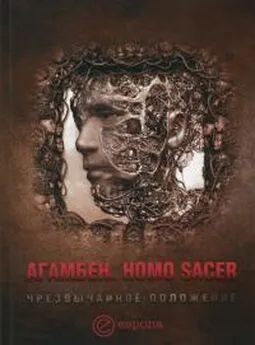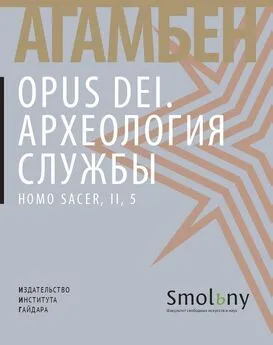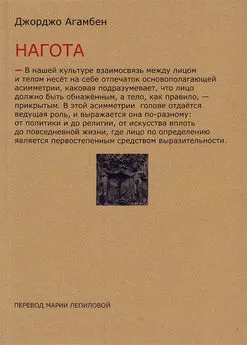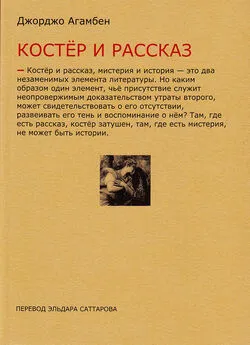Джорджо Агамбен - Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель
- Название:Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Европа
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джорджо Агамбен - Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель краткое содержание
Джорджо Агамбен (р. 1942) — выдающийся итальянский философ, автор трудов по политической и моральной философии, профессор Венецианского университета IUAV, Европейской школы постдипломного образования, Международного философского колледжа в Париже и университета Масераты (Италия), а также приглашенный профессор в ряде американских университетов.
Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Невероятное открытие, которое Леви сделал в Освенциме, касается области, уклоняющейся от любого установления ответственности, он смог определить некий новый элемент этики. Леви называет его «серой зоной». Это зона, в которой разворачивается «длинная цепочка соединений между жертвой и палачами», где угнетенный становится угнетателем, а палач становится, в свою очередь, жертвой. Серая непрерывная алхимия, в которой добро и зло, а с ними и все металлы традиционной этики достигают своей зоны плавления.
Речь идет, следовательно, о зоне безответственности и «невозможности суждения (impotentia judicandi)» [27] Леви, Примо. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010. С. 49.
, которая располагается не за пределами добра и зла, а, так сказать, внутри пределов того и другого. Жестом, симметрично противопоставленным жесту Ницше, Леви сместил сюда этику оттуда, где мы привыкли ее располагать. И хотя мы не можем сказать почему, мы чувствуем, что это «здесь, внутри пределов» является более важным, чем любое «запредельное», что недочеловек должен значить для нас больше, чем сверхчеловек. Эта позорная зона безответственности является нашим первым кругом, из которого никакое признание ответственности не сможет нас вывести, и где каждую минуту разучивается по слогам урок «страшной, бросающей вызов словам и мыслям банальности зла» [28] Арендт, Ханна. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008. С. 376.
.
Латинский глагол spondeo, от которого происходит итальянское слово responsabilita — ответственность, означает «выступить поручителем за кого–либо (или за себя) в чем–то перед кем–либо». Так, во время обряда обручения произнесение формулы spondeo обозначало, что отец обязуется отдать в жены претенденту свою дочь (которая поэтому называлась sponsa ) или гарантирует возмещение в случае, если брак не состоится. В древнейшем римском праве в действительности существовал обычай, по которому свободный человек мог становиться заложником — то есть находиться в заключении, откуда и происходит термин obligatio, — чтобы гарантировать возмещение ущерба или исполнение обязательства. (Термин sponsor обозначал того, кто замещал ответчика — reus, обещая предоставить в случае неисполнения ответчиком обязательства надлежащее возмещение.)
Следовательно, жест принятия на себя ответственности по сути не является этическим. Он не выражает ничего благородного и светлого, а лишь обозначает связывание себя (obligatio), передачу себя в заключение для того, чтобы гарантировать выплату долга в перспективе, в которой правовые узы относились еще физически к телу ответственного. Как таковые эти узы тесно связаны с понятием вины, которое в широком смысле означает ответственность за ущерб (поэтому римляне исключали возможность быть виновным перед самим собой: quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire — ущерб, нанесенный самому себе, не имеет правового значения).
Таким образом, ответственность и вина просто выражают два аспекта правовой ответственности, и лишь позднее они были интериоризированы, а затем выведены за пределы права. Отсюда недостаточность и непроницаемость любой этической доктрины, которая претендует на то, чтобы основываться на этих двух понятиях. (Это касается и Йонаса, который претендовал на то, чтобы сформулировать самый настоящий «принцип ответственности», и, возможно, Левинаса, который, более сложным образом, трансформировал жест «спонсора» в исключительно этический жест.) Недостаточность и непроницаемость проявляются со всей ясностью каждый раз, когда речь идет о попытке очертить границы, отделяющие этику от права. Приведем два примера, очень далеких друг от друга по уровню серьезности рассматриваемых фактов, но совпадающих в том, что касается данного различия, которое оба, кажется, подразумевают.
Во время иерусалимского процесса постоянная линия защиты Эйхмана была выражена его адвокатом Робертом Сервациусом следующим образом: «Эйхман чувствует себя виновным перед Богом, но не перед законом». И действительно, Эйхман (ответственность которого в истреблении евреев была очевидно доказана, несмотря на то что, вероятно, его роль и отличалась от той, которую ему инкриминировало обвинение) даже заявил о том, что хочет «публично повеситься», чтобы «снять с молодых немцев бремя вины», но, тем не менее, до самого конца продолжал утверждать, что его вина перед Богом (которым для него был Höheren Sinnesträger, высший носитель смысла) не наказуема по закону. Единственным возможным смыслом этого столь настойчиво повторяемого различия является то, что признание моральной вины, очевидно, казалось подсудимому этически благородным, но в то же время он не был готов признать уголовную ответственность (которая, с этической точки зрения, должна была бы быть менее тяжелой).
Недавно группа людей, которые в прошлом входили в крайне левую политическую организацию, опубликовала в газете сообщение, в котором они заявляли о собственной политической и моральной ответственности за убийство комиссара полиции, произошедшее 20 лет назад. «Эта ответственность, однако, — говорилось в сообщении, — не может быть трансформирована… в уголовную ответственность». Здесь уместно вспомнить, что признание моральной ответственности имеет значение, только если вы готовы принять ее юридические последствия. И это авторы сообщения, кажется, до некоторой степени ощущают, так как делают существенный шаг, принимая на себя ответственность, которая звучит в точности как уголовная, когда утверждают, что «создали климат, который привел к убийству» (но срок давности данного преступления — подстрекательства к убийству — естественно, уже истек). В любую эпоху считалось благородным, будучи виновным, принять на себя чужую юридическую ответственность (Сальво д’Аквисто [29] Сальво д’Аквисто (1920–1943) — итальянский карабинер, ценой своей жизни спасший от расстрела 22 невиновных жителей деревни, которых эсэсовцы обвинили в организации взрыва на военном складе в небольшой деревушке Торримпьетра в окрестностях Рима. Был расстрелян 23 сентября 1943 года.
), в то время как принятие политической или моральной вины без юридических последствий всегда характеризовало высокомерие сильных мира сего (Муссолини в отношении убийства Маттеотти [30] Джакомо Маттеотти (1885–1924) — один из лидеров Итальянской социалистической партии, убежденный критик фашизма. Разоблачал избирательные махинации и злоупотребления фашистской партии на выборах 1924 года, потребовал аннулировать мандаты фашистских депутатов. 10 июня 1924 года был похищен и убит фашистами.
). Но сегодня в Италии эти модели поменялись местами, и покаянное принятие моральной вины постоянно используется, чтобы избежать юридической ответственности.
Интервал:
Закладка: