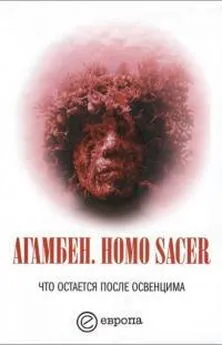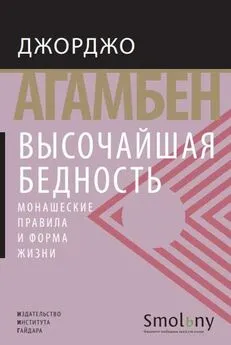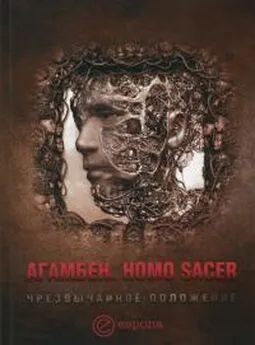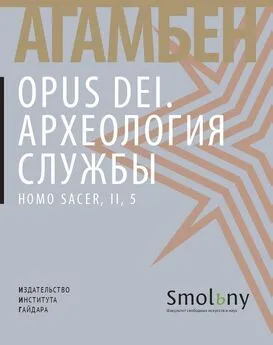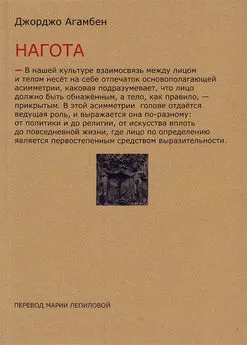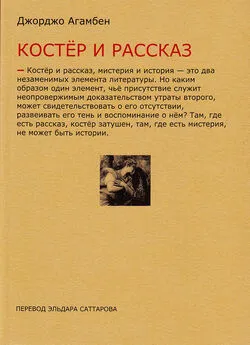Джорджо Агамбен - Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель
- Название:Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Европа
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джорджо Агамбен - Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель краткое содержание
Джорджо Агамбен (р. 1942) — выдающийся итальянский философ, автор трудов по политической и моральной философии, профессор Венецианского университета IUAV, Европейской школы постдипломного образования, Международного философского колледжа в Париже и университета Масераты (Италия), а также приглашенный профессор в ряде американских университетов.
Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но и использование термина в полемике против евреев имело в истории свое продолжение, хотя речь идет о тайной истории, не зарегистрированной в словарях. В ходе моих исследований понятия суверенности я столкнулся у автора средневековой хроники с первым известным мне случаем употребления термина «холокост» в значении уничтожения евреев, но в этом примере он имеет сильную антисемитскую окраску. Ричард из Дайзеса свидетельствует, что в день коронации Ричарда Львиное Сердце (в 1189 году) лондонцы устроили особенно кровавый еврейский погром:
В день коронации короля, примерно в тот час, в который Сын был принесен в жертву Отцу, в Лондоне начали приносить евреев в жертву отцу их дьяволу ( incoeptum est in civitate Londoniae immolare judaeos patri suo diabolo ); и празднование этого таинства длилось так долго, что холокост завершился лишь на следующий день. И другие города и деревни в округе подражали вере лондонцев, и с таким же благочестием отправляли в преисподнюю этих кровопийц всех в крови (pari devotione suas sanguisugas cum sanguine transmiserunt ad inferos) [54] Bertelli, Sergio. Lex animata in terris II La citta e il sacro / ed. Franco Cardini. Milano, 1994. P. 131.
.
Формирование эвфемизма всегда приводит к двусмысленности, поскольку оно предполагает замещение прямого выражения чего–то, о чем мы на самом деле не хотим слышать, смягченным или измененным выражением. Но в данном случае двусмысленность зашла слишком далеко. Евреи также пользуются эвфемизмом для обозначения истребления людей. Речь идет о слове so’ah (шоа), значение которого — «опустошение, катастрофа», в Библии оно часто подразумевает идею Божьей кары (как в Книге Пророка Исайи, 10:3: «И что вы будете делать в день посещения, когда гибель (so’ah) придет издалека?»). Даже несмотря на то, что Леви, по–видимому, имеет в виду именно этот термин, когда протестует против попытки толковать массовое уничтожение людей как наказание за наши грехи, этот эвфемизм все же не содержит никакой насмешки. В случае же термина «холокост», напротив, установление связи, пусть и самой отдаленной, между Освенцимом и библейским olah, между смертью в газовых камерах и «полным самопожертвованием ради священных и высших мотивов» не может не звучать издевательски. Этот термин не только предполагает неприемлемое уравнивание печей крематориев с алтарями, но и несет в себе все семантическое наследие, которое с самого начала имело антиеврейскую окраску. Поэтому я никогда не буду использовать этот термин. Тот, кто продолжает им пользоваться, демонстрирует свое невежество или бесчувственность (или то и другое вместе).
1.11.Когда несколько лет назад я опубликовал в одной французской газете статью о концлагерях, один из читателей написал главному редактору письмо, в котором обвинил меня в том, что я хотел своим анализом «уничтожить уникальный и невыразимый характер Освенцима». Впоследствии я часто задавался вопросом, что имел в виду автор этого письма. Уникальность феномена Освенцима (по крайней мере что касается прошлого, и мы можем лишь надеяться, что он не повторится в будущем) никто не ставит под сомнение. («Несмотря на то, что за годы, прошедшие до написания этой книги, мы столкнулись и с ужасом Хиросимы и Нагасаки, и с позором ГУЛАГа, и с бессмысленной кровавой кампанией во Вьетнаме, и с самоуничтожением камбоджийского народа, и с пропавшими без вести в Аргентине, и с многими жестокими и бессмысленными войнами, концентрационная нацистская система так и осталась уникальной — как по масштабам, так и по своему характеру» [55] Леви, Примо. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010. С. 15 и далее.
.) Но почему Освенцим невыразим? Зачем придавать массовому истреблению людей мистический оттенок?
В 386 году нашей эры Иоанн Златоуст сочинил в Антиохии свой трактат «О непостижимости Бога». Он полемизировал с оппонентами, утверждавшими, что сущность Бога может быть познана, так как «все то, что Он знает о себе, мы легко находим и в нас самих». Энергично утверждая в споре с ними абсолютную непостижимость Бога, который «невыразим» ( arrhetos ), «несказанен» (anekdiegetos) и «неизречим» (anepigraptos) , Иоанн прекрасно осознает, что именно это является наилучшим способом славить его (doxan didonai ) и поклоняться ему (proskyein ). Ведь и для ангелов Бог непостижим, и поэтому они тем лучше могут возносить ему славу и хвалу, непрестанно воспевая в своих мистических песнопениях. Множествам ангелов Иоанн противопоставляет тех, кто тщетно силится понять: «Те прославляют, а эти изследуют; те славословят, а эти испытывают; те закрывают лица, а эти усиливаются безстыдно взирать на неизреченную славу» [56] Святитель Иоанн Златоуст. Против аномеев (О непостижимости Бога). Слово первое // Полное собрание сочинений Св. Иоанна Златоуста. В 12–ти т. М.: Православная книга, 1991. Т. 1. Книга 2.
. Греческий глагол, который мы перевели «поклоняться в молчании», в оригинальном тексте звучит как euphemein. От этого слова, которое означает «рассматривать в благоговейном молчании», происходит современный термин «эвфемизм», указывающий на слова, замещающие другие слова, которые из чувства стыда или из–за хороших манер мы не можем произнести. Сказать, что Освенцим «неизречим» или «непостижим», означает euphemein, поклоняться ему в безмолвии, как богу; то есть, какими бы ни были намерения этого человека, он поучаствовал в его прославлении. А мы, напротив, «усиливаемся безстыдно взирать на неизреченную славу». Пусть даже мы рискуем обнаружить, что все, что зло знает о самом себе, мы легко находим в нас самих.
В свидетельстве, однако, есть лакуна. И по этому поводу выжившие единодушны.
Есть также еще одна лакуна в любом свидетельстве: свидетели по определению являются выжившими и, следовательно, все в той или иной мере пользовались привилегиями… О судьбе обычного заключенного не рассказал никто, так как он физически не смог выжить… Обычных заключенных описываю и я, когда говорю о «мусульманах [57] «Мусульманин» — на лагерном сленге узник, находившийся в стадии крайнего физического и психического истощения. Более подробно об этом см. главу 2.
»: однако сами мусульмане не говорили [58] Levi, Primo. Conversazioni e interviste. Torino: Einaudi, 1997. Pp. 215 sg.
.
Те, кто не пережил этот опыт, никогда не узнают, что это было; а те, кто пережил его, никогда о нем не расскажут по–настоящему, до самого конца. Прошлое принадлежит мертвым… [59] Wiesel, Elie. For Some Measure of Humility // Sh’ma: A Journal of Jewish Responsibility. № 5. 1975. P. 314.
Стоит осмыслить эту лакуну, которая ставит под вопрос сам смысл свидетельства и вместе с ним — идентичность и надежность свидетелей.
Повторяю, не мы, оставшиеся в живых, настоящие свидетели… Мы, выжившие, составляем меньшинство, совсем ничтожную часть. Мы — это те, кто благодаря привилегированному положению, умению приспосабливаться или везению не достиг дна. Потому что те, кто достиг, кто посмотрел в глаза Горгоне, уже не вернулись, чтобы рассказать, или вернулись немыми; но это они, «мусульмане», доходяги, канувшие — подлинные свидетели, чьи показания должны были стать главными. Они — правило; мы — исключение… Мы, кого судьба пощадила, пытались рассказать не только про свою участь, но, с большей или меньшей степенью достоверности, про участь тех, канувших; только это были рассказы «от третьего лица», о том, что мы видели рядом, но не испытали сами. Об уничтожении, доведенном до конца, завершенном полностью, не рассказал никто, потому что никто не возвращается, чтобы рассказать о своей смерти. Канувшие, даже если бы у них были бумага и ручка, все равно не оставили бы свидетельства, потому что их смерть началась задолго до того, как они умерли. За недели, месяцы до того, как потухнуть окончательно, они уже потеряли способность замечать, вспоминать, сравнивать, формулировать. Мы говорим за них, вместо них [60] Леви, Примо. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010. С. 68–69.
.
Интервал:
Закладка: