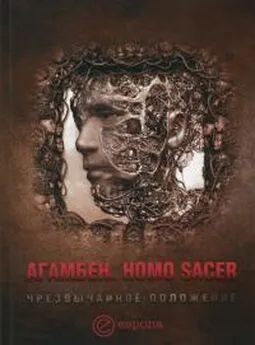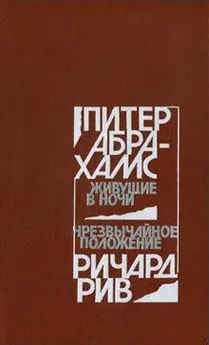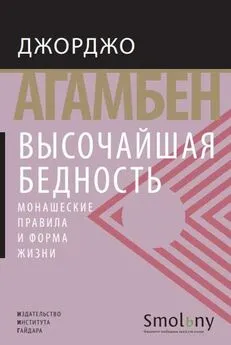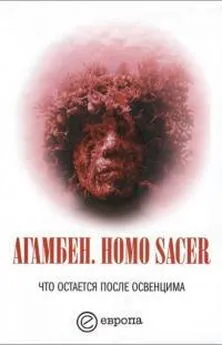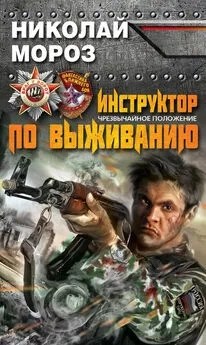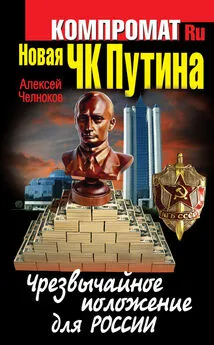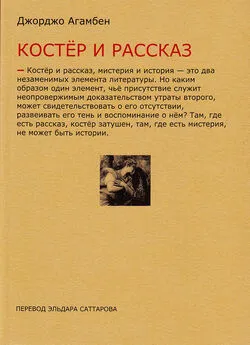Джорджо Агамбен - Homo sacer. Чрезвычайное положение
- Название:Homo sacer. Чрезвычайное положение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Европа
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джорджо Агамбен - Homo sacer. Чрезвычайное положение краткое содержание
Книга Агамбена — продолжение его ставшей классической «Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь» — это попытка проанализировать причины и смысл эволюции чрезвычайного положения, от Гитлера до Гуантанамо. Двигаясь по «нейтральной полосе» между правом и политикой, Агамбен шаг за шагом разрушает апологии чрезвычайного положения, высвечивая скрытую связь насилия и права.
Homo sacer. Чрезвычайное положение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Далее учение Шмитта о чрезвычайном положении устанавливает в теле права ряд цезур и подразделений, которые хотя и не всегда стыкуются друг с другом, все же благодаря своей взаимосвязанности и противопоставленности позволяют машине закона функционировать.
Возьмем, например, оппозицию между нормами права и нормами осуществления права, между нормой и ее конкретным применением. Комиссарская диктатура показывает, что момент применения автономен по отношению к норме как таковой и что норму «можно приостановить в ее действии, при том что она не перестает действовать» [97] Шмитт, Карл. Диктатура: от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб.: Наука, 2005. С. 158.
. То есть комиссарская диктатура подразумевает такое состояние закона, в котором он не применяется, но остается в силе. Суверенная же диктатура, в которой старая конституция более не существует, а новая представлена в «минимальной» форме учреждающей власти, напротив, означает состояние закона, в котором он применяется, но формально не действителен.
Теперь возьмем оппозицию нормы и решения. Шмитт показывает, что они несводимы друг к другу в том смысле, что решение никогда не может быть выведено без остатка из содержания нормы [98] «Когда Мооль говорит, что юридически невозможно проверить, имеет ли место чрезвычайное положение, он исходит из предпосылки, что решение в правовом смысле должно быть полностью производным от содержания нормы. Но в том–то и вопрос. Всеобщность этой формулы, как ее высказывает Мооль, является только выражением либерализма правового государства, и в ней не учитывается самостоятельное значение решения (Dezision)». См.: Шмитт, Карл. Политическая теология. М.: Канон–Пресс–Ц, 2000. С. 16.
. В решении о чрезвычайном положении норма приостанавливается или даже аннулируется, но суть этой приостановки, повторим, — в создании ситуации, в которой применение нормы снова стало бы возможным («должна быть создана ситуация, в которой могут действовать формулы права» [99] Там же. С. 26.
). Таким образом, чрезвычайное положение отделяет норму от ее применения для того, чтобы сделать возможным само применение. Оно вводит в область права зону аномии, чтобы сделать возможной эффективную нормализацию реальности.
Поэтому мы можем определить чрезвычайное положение в учении Шмитта как место, в котором оппозиция между нормой и ее применением становится максимальной. Это поле правового напряжения, в котором минимум действенности совпадает с максимумом применения и наоборот. Но даже в этой экстремальной зоне — и более того, именно в силу присущих ей свойств — оба эти элемента права проявляют свою глубинную связь.
Прояснить это поможет структурная аналогия между языком и правом. Как лингвистические элементы существуют в языке без какой–либо реальной денотации, которую они приобретают только в самом дискурсе, так в чрезвычайном положении норма действует без какой бы то ни было отсылки к реальности. Но как конкретная лингвистическая активность становится интеллигибельной через пресуппозицию чего–то похожего на язык, так же и норма посредством приостановки ее применения в чрезвычайном положении может отсылать к нормальной ситуации.
В целом можно сказать, что не только язык и право, но и все социальные институты сформировались в результате процесса десемантизации и приостановки конкретной практики, непосредственно соотнесенной с реальностью.
Как грамматика, порождая речь без денотации, вычленила из дискурса нечто похожее на язык, или как право, приостановив обычай и конкретные традиции индивидов, смогло выделить нечто вроде нормы, так же и упорная работа цивилизации в любой сфере продолжает отделять человеческую практику от ее непосредственного исполнения и таким образом создавать тот избыток означающего по отношению к денотату, который впервые был отмечен Леви–Строссом [100] См.: Леви–Строс, Клод. Структурная антропология. М., 2001.
. Избыточное означающее — этот ведущий концепт гуманитарных наук XX века — соответствует в этом отношении чрезвычайному положению, в котором норма остается действительной, но не применяется.
В 1989 году Жак Деррида провел в Школе права им. Бенджамина Кардозо в Нью–Йорке конференцию под названием «Сила закона: мистическое основание власти» ( Force de loi: le fondement mystique de l’autorité). Конференция, в действительности состоявшая из чтения эссе Беньямина «К критике насилия», вызвала широкую полемику как среди философов, так и среди юристов; но тот факт, что никто не пытался проанализировать загадочную формулировку, которая дала название тексту, является признаком не только окончательного разделения философской и юридической культур, но и упадка последней.
За выражением «сила закона» стоит долгая традиция римского и средневекового права, в которой оно (по крайней мере начиная с Дигеста «О законах» — legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire [101] «Действие права: повелевать, запрещать, разрешать, карать» (лат.). См.: Дигесты Юстиниана. В 8–ми т. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М.: Статут, 2002–2006. Т. 1. Кн. 1. Титул III, 7.
) имеет общий смысл действенности, способности обязывать. Но только в Новое время, в контексте французской революции, оно начинает обозначать высшую ценность государственных актов, исходящих от народных представительных собраний. Так, в статье 6 Конституции 1791 года force de loi обозначает неприкосновенность закона даже для суверена, неспособного ни отменить, ни изменить его. В этом смысле современная доктрина различает действенность закона, которая неотделима от любого действующего правового акта и заключается в произведении правовых эффектов, и силу закона — вторичный концепт, выражающий положение закона или приравненных к нему актов по отношению к другим законодательным актам, наделенным большей (как в случае конституции) или меньшей (декреты и инструкции, изданные исполнительной властью) силой [102] Quadri, Giovanni. La forza di legge. Milano, 1979. P. 10.
.
Решающим, однако, является то обстоятельство, что в техническом смысле синтагма «сила закона» и в доктрине Нового времени, и в античной доктрине отсылает не к закону, а к тем декретам — имеющим, как говорится, именно силу закона, — которые исполнительная власть может иметь право издавать в некоторых случаях (и прежде всего в ситуации чрезвычайного положения). То есть концепт «сила закона» как технический термин права обозначает отделение vis obligandi, или применимости нормы, от ее формальной сущности, благодаря чему декреты, мероприятия и меры, не являющиеся формально законами, тем не менее приобретают «силу». Так, когда в Риме принцепс [103] Принцепс (от лат. princeps — первый, главный) — во времена Римской республики наименование сенаторов (princeps senatus), значившихся первыми в списке сената, — обычно старейшие из бывших цензоров. Официально принцепс не имел особых полномочий и прав, кроме почетного права первым высказывать свое мнение. Некоторые принцепсы в период республики пользовались большим авторитетом и нередко оказывали сильное влияние на политику государства. Начиная с Августа в период империи термин «принцепс сената» обозначал носителя монархической власти.
получал власть издавать акты, которые постепенно все больше и больше обретали значимость законов, римская доктрина говорила, что эти акты имеют «силу закона» (i quod principi placuit legis habet vigorem [104] «То, что решил принцепс, имеет силу закона» (лат.). См.: Дигесты Юстиниана. В 8–ми т. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М.: Статут, 2002–2006. Т. 1. Кн. 1. Титул IV, 1.
). В тех же выражениях, но особо подчеркивая формальное отличие законов и установлений принцепса, Гай пишет legis vicem obtineat [105] Имеет силу закона (лат.).
, а Помпоний — pré lege servatur [106] Есть закон (лат.).
.
Интервал:
Закладка: