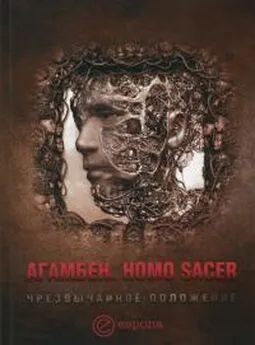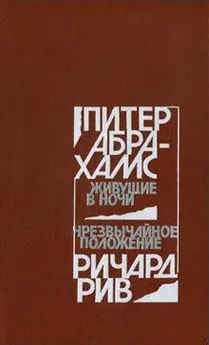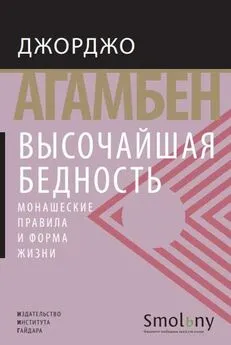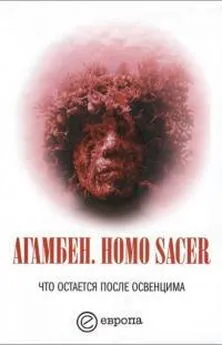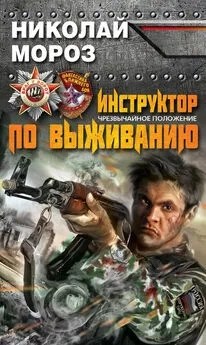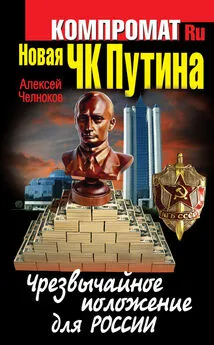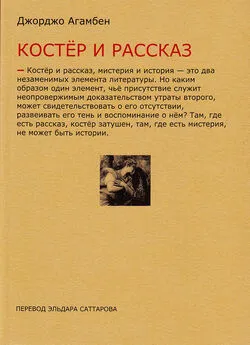Джорджо Агамбен - Homo sacer. Чрезвычайное положение
- Название:Homo sacer. Чрезвычайное положение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Европа
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джорджо Агамбен - Homo sacer. Чрезвычайное положение краткое содержание
Книга Агамбена — продолжение его ставшей классической «Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь» — это попытка проанализировать причины и смысл эволюции чрезвычайного положения, от Гитлера до Гуантанамо. Двигаясь по «нейтральной полосе» между правом и политикой, Агамбен шаг за шагом разрушает апологии чрезвычайного положения, высвечивая скрытую связь насилия и права.
Homo sacer. Чрезвычайное положение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В нашем изложении чрезвычайного положения мы встретили многочисленные примеры подобного смешения актов исполнительной и законодательной власти; более того, как мы показали, подобное смешение является одной из наиболее существенных особенностей чрезвычайного положения (предельным случаем является нацистский режим, в котором, как не уставал повторять Эйхман, «слова фюрера имели силу закона [107] Цит. по: Арендт, Ханна. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Издательство «Европа», 2008. С. 222.
»).
Однако с технической точки зрения специфический эффект чрезвычайного положения — это не столько смешение властей, на котором до сих пор слишком сильно настаивали, сколько изоляция «силы закона» от закона. Эта изоляция определяет такое «состояние закона», в котором, с одной стороны, норма находится в действии, но не применяется (не имеет «силы»), а с другой — акты, не имеющие значимости закона, обретают в этом состоянии «силу». То есть в предельном случае «сила закона» колеблется как неопределенный элемент, на который может притязать как государственная власть (которая в таком случае действует как комиссарская диктатура), так и революционная организация (которая в таком случае действует как суверенная диктатура). Чрезвычайное положение — это пространство аномии, в котором ставкой является «сила закона» без закона (и которая поэтому должна именоваться «сила закона»). Такая «сила закона», где потенциал и действие полностью разделены, безусловно является неким мистическим элементом или скорее некоей fictio [108] Фикция, выдумка (лат.).
, посредством которой право пытается присвоить саму аномию. Но как можно осмыслить подобный «мистический» элемент и каким образом он действует в чрезвычайном положении — это именно та проблема, которую необходимо разъяснить.
Понятие применения, безусловно, является одной из наиболее проблемных категорий юридической (и не только) теории. Неверной была сама постановка вопроса, который рассматривал кантовское понимание суждения как способность мыслить особенное в качестве содержащегося во всеобщем. Применение нормы было бы тогда случаем определяющего суждения, в котором всеобщее (правило) дано, и под него следует подвести частный случай (в рефлектирующем суждении, напротив, дано особенное и следует найти общее правило). Несмотря на то, что Кант в действительности прекрасно понимал апоретичность проблемы и сложность выбора in concreto между двумя типами суждения (тому доказательством служит его понимание примера как частного случая правила, которое невозможно изложить), недоразумение здесь происходит оттого, что отношения между частным случаем и нормой представляются как чисто логическая операция.
И здесь аналогия с языком делает более ясным для понимания тот факт, что в отношении общего и частного (тем более в случае применения юридической нормы) речь идет не только о логическом обобщении, но прежде всего о переходе от общего утверждения, обладающего чисто виртуальной референцией, к конкретной референции, к некому сегменту реальности (то есть ни больше ни меньше как о проблеме действительной связи между языком и миром). Этот переход от langue к parole [109] От языка к речи (лат.).
, или от семиотического к семантическому, никоим образом не является логической операцией; он всегда влечет за собой практическую деятельность, то есть принятие языка одним (или более) говорящим субъектом и приведение в действие того сложного механизма, который Бенвенист определил как «высказывательная функция» и который так часто недооценивают логики. В случае юридической нормы референция к частному случаю предполагает «процесс», в который всегда вовлечено множество субъектов и который достигает кульминации в момент вынесения приговора, то есть такого высказывания, действительное отношение которого к реальности обеспечивают институты власти.
Поэтому правильная постановка вопроса о применении требует предварительного переноса из области логики в область практики. Как показал Гадамер [110] См.: Гадамер, Ганс–Георг. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С. 401–402.
, дело не только в том, что любая языковая интерпретация в действительности является «аппликацией», требующей реальной герменевтической операции (в традиции теологической герменевтики она резюмирована в девизе, которым Иоганн Альбрехт Бенгель предварил свой перевод Нового Завета: te totum applica ad textum, rem totam applica ad te — «прилагай всего себя к тексту, весь текст прилагай к себе»), но и в том, что в случае, когда речь идет о праве, совершенно очевидно — и Шмитту не составило труда теоретизировать эту очевидность, — что применение нормы никоим образом в ней не содержится и не может быть из нее выведено, иначе не нужно было бы возводить внушительное здание процессуального права. Как между языком и миром, так и между нормой и ее применением нет никакой внутренней связи, которая позволяла бы незамедлительно вывести одно из другого.
В этом смысле чрезвычайное положение — открытие пространства, где применение и норма демонстрируют свое разделение и чистая «сила закона» осуществляет (то есть применяет, прекращая применение) норму, применение которой было приостановлено. Таким образом, невозможная спайка нормы и реальности и вытекающее из нее установление нормальной сферы производится в форме исключения, то есть через пресуппозицию связи между ними. Это означает, что для того, чтобы применить норму, необходимо приостановить ее применение, создать исключение. В любом случае чрезвычайное положение всегда подразумевает некую почву, на которой логика и практика теряют свою определенность и чистое насилие без логоса претендует на то, чтобы осуществлять высказывание, не имеющее реальной референции.
3. Iustitium
В римском праве существует институт, который некоторым образом может считаться архетипом современного Ausnahmezustand, но которому, тем не менее (или, возможно, именно по этой причине), историки права и теоретики публичного права не уделяют должного внимания, — это iustitium [111] Букв.: остановка права (лат.). Юридический термин, означавший остановку судопроизводства и прекращение всех общественных занятий. Объявлялась сенатом и магистратами в годы бедствий, опасностей и всеобщих волнений и отменялась после того, как опасность миновала. В императорский период имела место лишь при объявлении общественного траура по случаю смерти императоров или членов императорской фамилии.
. Этот институт позволяет рассмотреть парадигму чрезвычайного положения, поэтому мы воспользуемся им как уменьшенной моделью, чтобы попытаться распутать апории, которые не удается решить современной теории чрезвычайного положения.
Интервал:
Закладка: