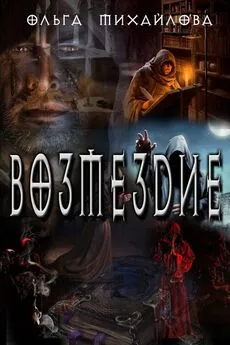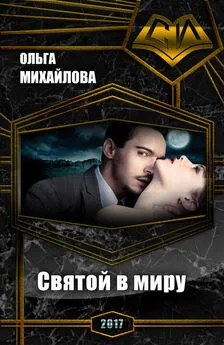Ольга Михайлова - Книжник [СИ]
- Название:Книжник [СИ]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Михайлова - Книжник [СИ] краткое содержание
Автор посвящает этот роман своим современникам-богоискателям, рожденным в шестидесятые. Это в некотором роде автобиография
Книжник [СИ] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А не кажется тебе, — почесал за ухом Насонов, — что все эти вопросы давно потеряли актуальность? Общество от резкой критики ленинизма-сталинизма перешло к умеренной и даже восхвалению достижений социализма. Про террор говорят все меньше и меньше. Сторонники либерализма в условиях «консервативной революции» в России превратились в политических маргиналов и аутсайдеров. Исследование истории «революционной ереси» мало кому интересно: это уже вчерашний день.
— Нет, — возразил Парфианов. — Ленинизм-сталинизм и террор — это хвост дракона. Нужно исследовать их причины и генезис, а он лежит в тех глубинах, которые являются у нас «священной коровой». Но я вовсе не сторонник либерализма. Я — консерватор-христианин, и даю оценку событий не с точки зрения истории или политики, а с точки зрения морали. И меня не очень-то волнует, назовут ли меня маргиналом или аутсайдером. Я это переживу.
— Все это уже обсуждено в девяностые.
Парфианов покачал головой.
— Совсем нет. Мы в те годы ещё не осмысляли себя в контексте свободы, не были теми, кто мог бы все осмыслить и сделать правильные выводы. Именно сегодня пришла пора осмысления и переосмысления всего багажа российской культуры. И я напишу об этом книгу, — настойчиво повторил он.
Глава 6
Книга родилась за сорок дней. Он писал, как одержимый, глаза пекло от света монитора.
Большевики, полагал Парфианов, вовсе не были пришельцами из космоса. Свой генезис они прекрасно знали и вычленяли правильно. Не возвели же они на пьедестал Фёдора Достоевского. Если просто нужен кумир — вот, бери его и ставь идолом. Но роман «Бесы» был запрещён до конца пятидесятых. При этом в России прекрасно понимали значимость книг: Ленин признавался, что роман Чернышевского его «глубоко перепахал». Бунин говорил, что книжные образы для него значили куда больше, чем живые люди, Бердяев утверждал то же самое, да и сам Книжник прекрасно помнил разговоры со своими книжными фантомами.
Сейчас фантомы ожили снова. Он лихорадочно выбрасывал на экран монитора страницы воспоминаний современников, биографий, читанных и законспектированных когда-то критических работ, потом вычитывал шестисотлистовые фолианты, оставляя только то, что могло пригодиться. Ему не приходилось что-то обдумывать: мысль проступала сама, без его усилий. Книжник понял, что это новое видение литературы даётся ему так легко потому, что где-то в нем самом всё это было уже давно обдумано и выверено его Истиной, Христом. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их…» По плодам он и оценивал.
Всплывали в памяти и гасли давние литературоведческие споры с Насоновым, разговоры с Лихтенштейном и Коганом. Вскоре Книжник понял, что лучше всего сделать своих учителей и друга реальными героями романа, и дать им возможность высказаться, одновременно — он порадовался возможности преодолеть смерть, оживив Лихтенштейна и умершего несколько лет назад Когана. В итоге Коган превратился в зав. кафедрой русской литературы Бориса Голембиовского, Лихтенштейн, сильно помолодев, воплотился в Марке Ригере, полагавшем, что рукописи современных писателей не только не горят, но и не тонут, а Насонов стал Александром Муромовым, филологом от Бога, считавшим, что филология как таковая может существовать и без литературы.
Книжник быстро разработал фабулу, сделав героев одинокими людьми: это освобождало им вечера. Потом придал судилищу четырёх бобылей-филологов вид не то инквизиционного Священного трибунала, не то заседания Ватиканской комиссии по канонизации святых, которые шли в форме диспутов «адвоката Бога» и «адвоката дьявола». Он ничего не придумал: именно эти заседания стали прообразом системы оппонирования при современных защитах диссертаций.
Он проанализировал Жуковского, прочтя воспоминания и несколько критических работ о нем. Улыбнулся — и ему точно улыбнулся Христос. Проступила кристальная в своей чистоте душа: увлечение идеями самосовершенствования, дневники с целью «познать самого себя», выработать собственные жизненные принципы. Безгневный и мягкий, бескорыстный и благостный, Жуковский был не от мира сего, жил в неясностях души, в туманных мерцаниях сердца, был искренне умилен жизнью, таинствами веры и мистериями бытия, дух его тоже, как дух Книжника, спокоен, точно дремотен. Даже жизненные драмы, вроде погибшей любви к Марии Протасовой, не разбивали сердце певца спящих дев. Его доброе слово неизменно совпадало с добрым делом, он пользовался своей близостью к трону, чтобы вступаться за всех гонимых и опальных. Ни один из писателей не отзывался на такое количество просьб о помощи, протекции, об устройстве на службу, о назначении пенсиона, об облегчении участи, сколько выполнил их Жуковский. В российской словесности от его присутствия стало светлее…
Грибоедов оказался клинком другого закала. Личность пришлось складывать из дневников, писем, официальных документов и слов современников. Но мнения драматурга о себе граничили с актёрством, документы ничего не проясняли, воспоминания же современников были крайне противоречивы. Чем больше Книжник читал, тем более мрачнел, понимая, что имеет дело с непорядочным человеком. Это был закон мемуаристики: после смерти такого человека мало кто хочет ворошить былое, друзья оставляют несколько приторно-нежных и лживо-витиеватых строк, а на случайных знакомых, толком не знавших умершего, действуют обаяние имени покойника и принцип «de mortuis aut bene…» Через пять-семь десятилетий невысказанные упрёки забываются, остаётся сладкая ложь… «Грибоедов родился с характером Мирабо», обронил Фаддей Булгарин, и это отнюдь не было комплиментом. Всплыла вина Грибоедова, стравившего своих друзей, в организации дуэли и гибели одного из них. Всплыли, по словам Пушкина, озлобленный ум, слабости и пороки, репутация отчаянного повесы, лермонтовская желчь и злость. Его талант был чумной бациллой: ведь сколько подражаний было нелепому образу Чацкого, сколько бездельников породило его знаменитое «служить бы рад, прислуживаться тошно…» И выливать столько злобы да дурного сарказма, выдаваемого за ум, на неокрепшие детские мозги?
Гоголь был первым и последним автором, считавшим: «Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою». Никто в русской литературе больше Гоголя не был объят мучительным сознанием ответственности поэта за написанное им. После Гоголя это уже никого не интересует. Собственно это и есть пограничное состояние морали писателя: либо он полагает, что талант обязывает его к сверх моральности, либо уверен, что дарование освобождает от морали. Гоголь ни разу за всю жизнь не совершил ни одного недостойного поступка. Странности — были, подлостей — нет. Иногда завирался, психовал… кошку утопил однажды в детстве, за дьявола приняв. Странен был, что и говорить… Но нормальный «Мёртвые души» и не написал бы… Николай Васильевич подлинно стремился к самосовершенствованию, алкал добродетели и по-настоящему боролся со своими пороками. Отказавшись раз навсегда от всякого комфорта, отдав своё имение матери и сёстрам, он мог, указывая на свой маленький чемодан, сказать: omnia mea mecum porto, — потому что в нём действительно было всё его достояние.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Ольга Михайлова - Книжник [СИ]](/books/1075350/olga-mihajlova-knizhnik-si.webp)

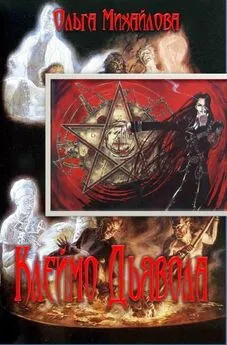
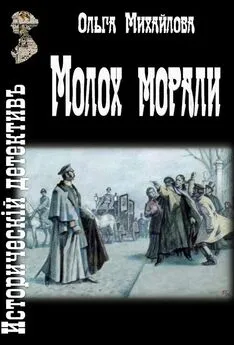
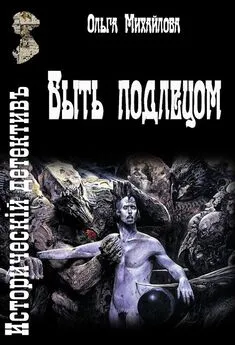
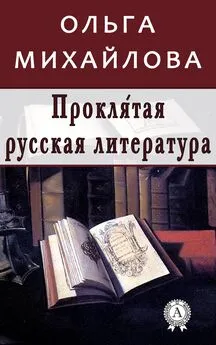
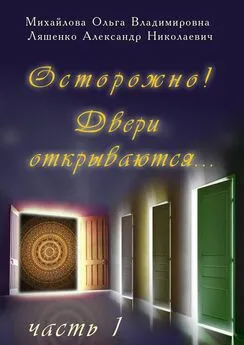
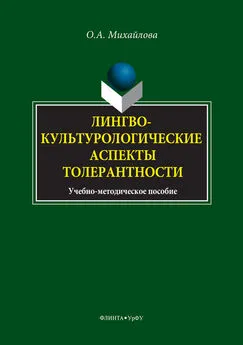
![Ольга Михайлова - Вино фей [СИ]](/books/1082113/olga-mihajlova-vino-fej-si.webp)