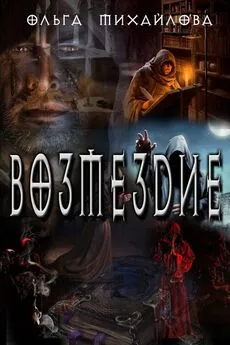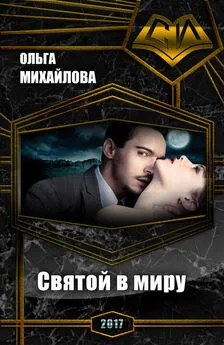Ольга Михайлова - Книжник [СИ]
- Название:Книжник [СИ]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Михайлова - Книжник [СИ] краткое содержание
Автор посвящает этот роман своим современникам-богоискателям, рожденным в шестидесятые. Это в некотором роде автобиография
Книжник [СИ] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Страшная сосредоточенность мысли на себе и страшная сила личного чувства проступала в Лермонтове. Поэт вовсе не занят ни судьбами отечества, ни судьбой своих ближних, а только своей. Отсюда — резкий фокус духовного зрения: оно направлено только на него самого. Сознавал ли Лермонтов, что пути его были путями ложными и пагубными? Да, но сделать действительное усилие, чтобы высвободиться от своих демонов, мешал демон гордыни, который нашёптывал: «Да, это дурно и низко, но ты гений, ты выше простых смертных, тебе всё позволено, ты имеешь от рождения привилегию оставаться высоким и в низости…» Гордыня потому и есть коренное зло, что это состояние души, которое делает всякое совершенствование невозможным. Гордыня для человека есть первое условие, чтобы никогда не стать сверхчеловеком… Гоголь и Жуковский это понимали. Понял и Пушкин. Лермонтов этого осмыслить не мог. Религиозное чувство в Лермонтове никогда не боролось с его демонизмом, и в более зрелом возрасте, после нескольких бесплодных порывов к возрождению, он находит окончательное решение в фатализме. Его обращение и преображение требовало бы сложного и долгого подвига, на который Лермонтов был просто неспособен. Сильная натура оказалась не в силах бороться с дьяволом. В итоге Лермонтов стал рабом зла и показал зло не только в его спокойно-иронической, презрительной и вежливой форме, он больше чем кто-либо из русских писателей изобразил лживую красоту зла, его одушевлённость и величие.
Порча в литературу просочилась с Белинским. Человек из мещанской среды, лишённый таланта и знаний, но одарённый даром невероятного красноречия и работоспособности, графоман и пустосвят — неожиданно заставляет себя слушать. Объяснить это рационально невозможно. Но ведь точно такая же личность возникает в своё время во Франции, когда плебей Вольтер становится вдруг «властителем дум» своего поколения. Он зол до истерии и чудовищный графоман, но современники зачитываются его корявыми драмами и глупейшими памфлетами. Абсолютно дутая величина, он казался столь значительным, что с ним переписывались монархи. Он — словно крошка Цахес, заколдованный феей… Потом — похмелье, и сыновья не могли понять, что находили их отцы в белиберде вчерашнего «властителя дум»… Значимость испарились, остался странный призрак да толстые тома никем не читаемой пустопорожней болтовни. Было и ещё одно странное сходство — внешняя непривлекательность и чудовищная раздражительность. Достоевский считал, что озлобленный на свою бездарность, Белинский начал уничтожать авторитеты. Не умеющий творить начал пожирать творцов. Одной его рецензии хватало, чтобы убить любую репутацию. Он и Достоевского добил бы, да не дожил до его возвращения из Семипалатинска. Гоголя ударил под дых, а вина Николая Васильевича была лишь в том, что умел думать своим умом. На Пушкина и Жуковского Виссарион не замахивался: не по нему величины были, а дай ему волю… И кто знает, сколько подлинных дарований, чьё творчество не соответствовало его дурным установкам, он задушил в зародыше, убил единой дьявольской насмешкой? Ад дал ему голос, влияние и невероятную плодовитость. Подлинно пустой, он, как мясорубка, работал только на идейках извне, и в один прекрасный день в него не то Бакуниным, не то Станкевичем, не то Герценом была вложена идейка социализма, пошлая, безбожная, суетная, а он, не умеющий различать добра и зла, начал ретранслировать её, поражая и заражая мозги современников…
Тургенев был образованнейшим из русских писателей, но оказался посредственностью. Он не был ни общественным, ни политическим деятелем, но упорно, заколдованный Белинским, пытался писать о том, к чему вовсе не лежала душа, не желая уронить себя в глазах молодёжи, вводил в свои романы начала, ему абсолютно чуждые, торопливо отзывался на злобу дня и терпел в этом жестокое и заслуженное крушение.
А в последние годы жизни, мучительно долго умирая от рака, он становился всё равнодушней к учёным теориям и идеям, когда-то представлявшимся самым нужным в жизни. В его лице, измученном долгими страданиями из-под европейского грима все резче проступали русские черты. Полезен или вреден человек для общества, способствует ли он прогрессу или он был «лишним» — Тургеневу теперь было всё равно. Он не мог не спросить себя: а что, если образованная Европа ошибается? Может быть, всё, что его «мировоззрение» отбрасывало, как ненужный хлам, таит в себе самое значительное и важное, что бывает в жизни? И даже «лишние люди», отбросы цивилизации, заслуживают не только сострадания? Что, если эти лишние люди, из которых никогда ничего не выходит, которые в этой жизни не умеют и не хотят сосредоточить силы на осуществление одной маленькой полезной задачки, вдруг окажутся правыми, самыми главными и нужными?
Страшное, ныне совсем непонятное влияние имел Чернышевский. Этот человек, не умевший отличить главное от второстепенного, проявлявший полнейшее равнодушие к людям и совершеннейшую девственность рассудка, точнее инфантилизм ума и духа, подчинил себе Россию. «Что делать?» — было написано в каземате, прочтено полицией и присоединено к делу. С точки зрения этической полицейскими писание это было признано безнравственным, с эстетической — антихудожественным и бездарным, а содержательно же было определено как утопический вздор. Походя заметим, что критическая оценка сыскарей царской охранки оказалась в высшей степени истинной. Сыскари Российской Империи доказали, что у них — прекрасный художественный вкус. Но дальше цензура разрешила печатание романа в «Современнике», рассчитывая, что эта вещь уронит авторитет Чернышевского, что его просто высмеют. Это был страшный просчёт. Никто не смеялся. Даже русские писатели не смеялись. Даже Герцен, находя, что «гнусно написано», тотчас оговаривался: «с другой стороны много хорошего, здорового». Вместо ожидаемых насмешек, вокруг «Что делать?» сразу создалась атмосфера всеобщего благочестивого поклонения. Его читали, как читают богослужебные книги, — и ни одна вещь Тургенева, Достоевского или Толстого не произвела такого могучего впечатления… «Странная судьба у этого странного писателя!» — с удивлением восклицал Достоевский. Его и вправду многое удивляло, особенно изумлял источник могущества, силы Чернышевского-идеолога, влияние которого на умы современников при всей его вопиющей бездарности и серости было поистине завораживающим, бесовским.
А вот Толстой бездарным не был. Жизнь льётся от его страниц, а сам создатель всей этой живой радости угрюмо отказывался от своих творений, как новый Гоголь, сжигал свои не мёртвые, а живые души. Он согрешил здесь — и не прощаемо: нельзя сопротивляться стихийной силе таланта и презирать свою одарённость. Сугубая же слабость его проявляется там, где он начинает притязать на что-то иное. Каждый творец ограничен, универсальных писателей нет: один силен даром интриги, другой — мастерством описания, третий — чувством юмора, четвёртому свойственен талант дидактика. Толстой же почему-то упорно стремился в ту сферу, где был бессилен… лавры Руссо, что ли, покоя не давали? Он, человек простоты и жизни, возжелал быть Сократом и Шопенгауэром. Но Сократ не любил простоты, а Шопенгауэр ненавидел жизнь, Толстой только по недоразумению мог свою художническую гениальность променять на указку моралиста. В нём подлинно, по Вяземскому, при огромном таланте не было ума, он интуитивно искал простые ответы на сложные вопросы — и невольно многое опошлил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Ольга Михайлова - Книжник [СИ]](/books/1075350/olga-mihajlova-knizhnik-si.webp)

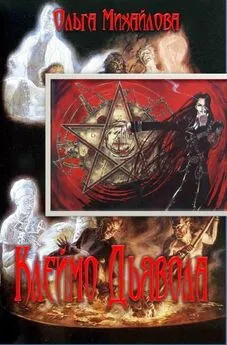
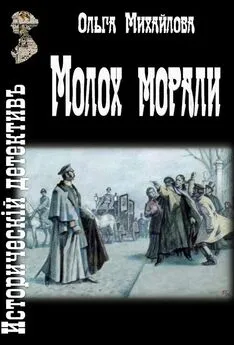
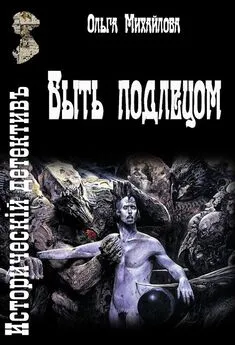
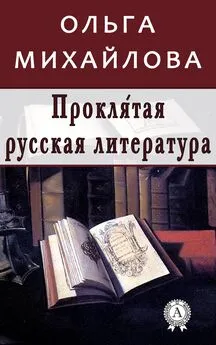
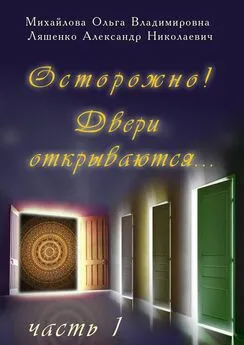
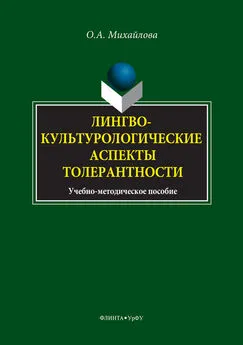
![Ольга Михайлова - Вино фей [СИ]](/books/1082113/olga-mihajlova-vino-fej-si.webp)