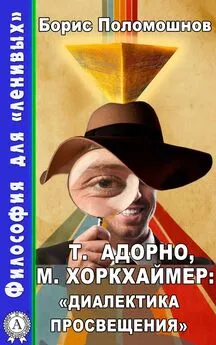Теодор Адорно - Негативная диалектика
- Название:Негативная диалектика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Научный мир»
- Год:2003
- Город:М.
- ISBN:5-89176-191-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Теодор Адорно - Негативная диалектика краткое содержание
Философия истории представлена в этой работе как методология всеобщего отрицания, диалектика -как деструкция всего данного. Новая волна популярности идей Адорно связана с ростом влияния радикальной антиглобалистской оппозиции. Вниманию читателей предлагается первый русский перевод текста "Негативной диалектики".
Над текстом "Негативной диалектики" Т.Адорно работал с 1959 по 1966 гг. Ядро книги составили три лекции, прочитанные им весной 1961 г. в Collge de France в Париже. Из первых двух лекций (их структура осталась без изменений) сложилась первая часть книги; третья, существенно переработанная и дополненная, стала основой для второй части.
Многие фрагменты текста датируются значительно более ранними сроками: первые наброски главы о свободе относятся к 1937 г., мотивы фрагмента "Мировой дух и всемирная история " заимствованы из доклада, который Адорно сделал в 1932 г. в местном отделении Кантовского общества. Идея логики распада является, по-видимому, одной из самых ранних в философской концепции автора; вероятно, ее истоки оформились уже в ученические годы Адорно.
Перевод с немецкого - Е.Л.Петренко по проекту «Университетская библиотека»
Негативная диалектика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Несмотря на крайний номинализм[*] Сартр выстраивает свою философию (на самом влиятельном ее этапе) в соответствии с логикой старой идеалистической дефиниции свободного, деятельного поступка (Tathandlung) субъекта. Для экзистенциализма, как и для Фихте, безразлична всякая объективность. Логично, что в произведениях Сартра общественные отношения и условия в любом случае являются актуальным приложением, структурно же - не более чем повод к действию. С позиции Сартра - позиции безобъективности, действие расценивается как иррациональное, как сама иррациональность, о которой, наверное, меньше всего думает уверенный в себе просветитель. Представление об абсолютной свободе решения столь же иллюзорно, как давнишняя идея абсолютного Я (Ich), которое порождает из себя мир. Минимального политического опыта хватит, чтобы заставить шататься кулисы, смоделированные как фон для выбора героев ситуации. Такое суверенное решение невозможно драматически постулировать в конкретных переплетениях истории. Полководец, который спонтанно и иррационально принимает решение избегать ужасов и мерзостей, испытанных им ранее в полной мере; полководец, который отказывается от осады уже полученного в результате предательства города и основывает утопическую общину в дикие времена анекдотически романтизированного немецкого ренессанса, моментально был бы если не убит взбунтовавшимися солдатами, то низложен стоящими над ним. Все это можно принять, только если признать, что Гетц - это символ; хвастливый, как Нестор Олоферн, истребивший население Лихтштадта и уразумевший свои свободные действия и использовавший в своих личных интересах народное движение -это прозрачный символический образ всех тех, борясь с которыми Сартр и разыгрывает тему абсолютной спонтанности. Абсолютный субъект не складывается из стечения обстоятельств; путы и оковы, которые он хотел бы разорвать, - это то же самое, что принцип абсолютной субъективности. К чести Сартра, все это находит выражение в его драме и оппонирует главному философскому произведению; пьесы лишь дезавуируют его философию, продавая ее в форме тезисов. Сумасбродства политического экзистанциализ-ма, как и фразеология его деполитизированного, немецкого варианта, имеет свое философское основание. Экзистенциализм возвышает неизбежное, наличное бытие человека до образа мыслей, который отдельный индивид должен выбрать, не определяя оснований своего выбора и не имея альтернативы другого выбора. Если экзистенциализм учит чему-то большему, чем эта тавтология, то это он делает при помощи для-себя-существующей субъективности, которая только и есть субстанциальное. Направления, желания которых выражено девизом латинского existere могли бы мобилизовать живой опыт против отчужденной, отдельной, частной науки. Из страха перед овеществлением они отступают перед содержательным, вещным. Вещное превращается в их руках в пример. То, что экзистенциалистские концепции понимают под ?????, мстит им, когда, следуя философии решения и выбора, находит свою силу за спиной философии - в иррациональном.
[*] Согласно правилам игры нерефлексивного Просвещения, гегелевская реституция реализма понятия была реакционной вплоть до провокационной защиты антологического доказательства бытия бога. Между тем ход истории узаконил свою антиноминалистическую ориентацию. В отличие от грубой схемы социологии знания Шелера, номинализм перешел в идеологию, для которой еще не существует двусмысленное Это (Das), которым охотно ублажает себя официальная наука, когда упоминаются неприятные сущности типа "класс", "идеология", а с недавних пор и "общество вообще". Отношение последовательно критической философии к номинализму неоднозначно, оно меняется исторически вместе с функцией скепсиса (см. М.Хоркхаймер. Монтень и функция скепсиса). Любой fundamentum in re понятий, приписываемых субъекту, это идеализм. С ним номинализм ссорится только в том случае, если идеализм выдвигает претензию на объективность. Понятие капиталистического общества не является flatus vocis.
Мышление, очищенное от вещного и содержательного, ни в чем не превосходит частную беспонятийную (begriffslos) науку. Все версии экзистенциализма вторично впадают в формализм, с которым они как раз и враждуют во имя существенной потребности философии. Плюс ко всему, экзистенциализм пополняется случайными заимствованиями, особенно из психологии. Намерения экзистенциализма, во всякомслучаев его радикальной французской версии, могли бы реализоваться; но реализоваться не в удаленности от вещного, а в угрожающей близости кнему.Разделение на субъект и объект не снимается редукцией к человеческой сущности, даже если быэтобыла сущность абсолютной индивидуальности.Всюду,вплотьдоидущего от Лукача марксизма, популярный сегодня вопрос о человеке является идеологическим; идеологическим потому, что он диктует чистую форму инвариантов возможного ответа - "это сама историчность". То, чем должен быть человек "в себе" (an sich), это всегда только то, чем он был: человек прикован к скалам своего прошлого.Ноон не только то, чем он был и что он есть, но и то, чем он может стать; чтобы предугадать это, экзистенциализму не хватает определения. Группирующиеся вокруг экзистенции школы, в том числе крайне номиналистические, признают, что они не в состоянии познать отчуждение экзистенции, ее отвнешнения (Ent?u?erung), философствуя при помощи общих понятий о том, чего нет в понятии "человек", что противоположноему,вместо того, чтобывообразить, представить себе, а что же это такое - человек. Они иллюстрируют существование существующим.
Вещь, язык, история
Можно подумать, что в языках существующее обладает далеким и неясным прообразом в именах, не перекрывающих вещь категориально (правда, при этом имена теряют свою познавательную функцию). Познание во всей его полноте, неурезанное (ungeschm?lert) познание, хочет узнать о том, с чем его вымуштровали смиряться и что маскирует имена, слишком близкие этому нечто. Смирение и маскировка идеологически дополняются.
Идиосинкративная точность в выборе слов, как будто бы они должны назвать вещь, не дает ни малейшего повода думать, что для философии существенно изложение.
Основанием для познания такой устойчивости выражения по отношению к ???? ?? является его собственная диалектика, его понятийное самоопосредование; это опосредование и есть вступление, увертюра перед познанием непонятийного.
Опосредование в непонятийном -этоне остатки, которые получаются после вычитания, и не указание на дурную бесконечность такого рода процедур. В большей степени это опосредование внутренней его истории. Философия творит из негативного, что-то узаконивает из этого негативного:это что-то- то неразрешимое, перед которым она капитулирует и из которого вырастает идеализм; в своем так-и-не-иначе-бытии (So-und- nicht-anders-Sein) оно является фетишем, фетишем ложности слова о существующем, исчезающим, когда приходит понимание - все происходит не просто так и не просто иначе, а обусловленно. Становление живет в вещи, не ориентируясь на понятие, не стремясь дистанцироваться от него или забыть его. Это становление похоже на временный опыт. Если прочесть существующее как текст его становления, в самом прочтении соприкасаются идеалистическая и материалистическая диалектики. Для идеализма внутренняя история непосредственности есть утверждение непосредственности как ступени понятия; с материалистической точки зрения непосредственность превращается в меру неистинности понятия, и не только понятия, но большего, чем понятие - существующего непосредственного. То, чем негативная диалектика пронизывает свои застывшие, затвердевшие предметы, -этовозможность, которой лишена их действительность, но которая смотрит из каждого такого предмета. Уже при самом внешнем усилии выразить в языке эту сбежавшую в предметы и вещи историю, использованные слова останутся понятиями.Ихточность заменяет самость вещи, не актуализируя этой самости. Между понятиями и тем, чему они присягают, зияет пустота. Отсюда - осадок произвола и относительности как в выборе слов, так и в изложении в целом. Уже Беньямин говорил о том, что понятия обладают склонностью авторитарно скрывать свою понятийность. Только сами понятиямогутпоказать, что скрывает и чему препятствует понятие. Познание -это?????? ???????. Доступная определению ошибка, присутствующая во всех понятиях в силу обстоятельств, притягивает к себе другие, возникает ситуация, в которую приходит что-то из самой надежды назвать, надежды имени (Hoffnung des Names). К этой ошибке приближается язык философии, отрицающей понятие. То, что философия критикует в словах, - претензия философии на непосредственную истину, является (практически постоянно) идеологией позитивного, реально существующего тождества между словом и вещью. Настойчивость по отношению к отдельному слову или понятию - двери, которые должны открыться, является всего лишь моментом, обязательным, не подлежащим пересмотру. Внутреннее, чтобы быть познанным, должно тесно сблизиться с познанием в выражении, которое есть всегда внешнее по отношению к этомувнутреннему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: