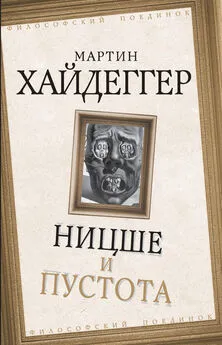Мартин Хайдеггер - Ницше и пустота
- Название:Ницше и пустота
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907028-41-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Хайдеггер - Ницше и пустота краткое содержание
Ницше и пустота - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уже из проведенного истолкования раздела А могло стать очевидным, что Ницше здесь не наугад перечисляет «три формы» нигилизма. Не хочет он также и просто лишь описать три способа, какими вводились прежние верховные ценности. Мы без труда замечаем, что названные три формы нигилизма состоят между собой во внутренней связи и вместе составляют своеобразное движение, т. е. историю . Правда, Ницше ни в каком месте не именует исторически известные и засвидетельствуемые формы введения верховных ценностей, нигде – историографически изобразимые событийные связи таких подстановок, которые мы можем охарактеризовать как принципиальные метафизические позиции. И все же он имеет их в виду. Он хочет показать, как на основе внутренней взаимосвязи этих подстановок верховных ценностей нигилизм не только возникает, но становится своеобразной историей, тяготеющей к некоему однозначному историческому состоянию. Описание трех «форм» нигилизма Ницше подытоживает так: «– Что по существу произошло? Чувство неценности было достигнуто, когда человек понял, что ни понятием “ цели ”, ни понятием “ единства ”, ни понятием “ истины ” интерпретировать совокупный характер существования не удастся. Ничего тем самым не получено и не достигнуто; не хватает всеохватывающего единства во множественности происходящего: характер существования не “истинен”, он ложен … человек просто не имеет уже никакого основания убеждать себя в каком-то истинном мире…»
Судя поэтому итогу, дело выглядит, конечно, так, словно искание смысла, введение единства и восхождение к «истинному» (сверхчувственному) миру суть лишь три параллельные интерпретации «совокупного характера существования», в ходе которых каждый раз «ничего не достигнуто». В какой малой мере, однако, Ницше думает лишь о констатации видов нигилизма и условий их возникновения, выдает заключительная фраза итогового абзаца раздела А: «Короче: категории “ цель ”, “единство”, “бытие”, которыми мы вкладывали в мир ценность, нами снова из него изымаются — и отныне мир выглядит неценным …»
Прежде чем мы покажем, как в свете этой заключительной фразы надо понимать весь предшествующий отрывок, надо сперва прояснить эту фразу в ее словесном звучании, причем в двух аспектах.
Верховные ценности как категории
Верховные ценности Ницше именует внезапно «категориями», не объясняя точнее этот титул и потому не обосновывая, почему верховные ценности могут быть схвачены и как «категории», почему «категории» можно понять как верховные ценности. Что значит «категория»? Это происходящее из греческого языка слово еще имеет у нас хождение на правах иностранного. Мы говорим, например, что кто-то принадлежит к категории недовольных. Мы говорим об «особой категории людей» и понимаем здесь «категорию» в значении «класса» или «сорта», и эти выражения – тоже иностранные слова, только они происходят не из греческого языка, а из романского и латинского. Как требует дело, имена «категория», «класс», «сорт» применяются для обозначения сферы, схемы, ячейки, куда что-то помещается и так упорядочивается.
Это применение слова «категория» не соответствует ни исходному словесному понятию, ни тому связанному с ним значению, которое было удержано словом как философским понятием. Вместе с тем привычное нам употребление слова «категория» сложено из «ката» и «агория». «Агория» значит: публично выступать, о чем-то известить общество, объявить, выявить. «Ката» означает: сверху на что-то вниз, в смысле брошенного на что-то взгляда; «категория» соответственно значит сделать общедоступным, открыто объявить при намеренном вглядывании во что-то, что именно оно есть. Такое открывание, обнаружение совершается через слово, поскольку это последнее – ословляет некоторую вещь – вообще нечто сущее – в том, что она (оно) есть, именуя ее как такую-то и так-то существующую.
Этот вид называния и выставления, обнародования словом, подчеркнутым образом дает о себе звать там, где на открытом судоговорении против кого-то выдвигается обвинение, что он тот самый, кто виновен в том-то и том-то. Называющее выставление имеет своей заметнейшей и потому доходчивейшей формой публичное обвинение. Поэтому «категория» означает особенным образом выставляющее называние в смысле «обвинения». Но при этом в качестве основного значения слышится открывающее, обнаруживающее называние. В этом значении может применяться философское понятие «категории» – соответственно, называющее выявление вещи в том, что она есть, причем так, что через это называние как бы само сущее получает слово в том, что оно само есть, т. е. выходит на свет и в открытость публичности.
«Категория» в этом смысле – слово «стол», или «ящик», или «дом» и т. п., но также красный, тяжелый, тонкий, храбрый – короче, всякое слово, высказывающее нечто сущее в его сути и тем извещающее, как сущее выглядит и существует. Категория есть называние сущего в том, что собственно присуще его виду, т. е. собственное имя, взятое во вполне широком смысле. В этом значении это слово применяется также и Аристотелем (Физика II 1, 192 b. 17).
Та или иная «категория» – это некое слово, которым вещь «схвачена» в том, что она есть. Это дофилософское значение оказывается далеким от того, которое еще остается за блеклым и поверхностным иностранным словом «категория» в нашем языке. Вышеупомянутое аристотелевское словоупотребление вполне соответствует, наоборот, духу греческого языка, философско-метафизическому и потому, вместе с санскритом и хорошо сохранившимся немецким языком, отличному от всех других языков.
Но философия как метафизика имеет дело с «категориями» в каком-то подчеркнутом смысле. Тут развертывают «учение о категориях» и «таблицу категорий»; Кант, например, учит в своем главном произведении, «Критике чистого разума», что таблицу категорий можно вычитать и вычислить из таблицы суждений. Что значит здесь, в языке философов, «категория»? Как взаимосвязана философская рубрика «категория» с таким же дофилософским словом?
Аристотель, употребляющий слово «категория» также и в обычном значении называния вещи в ее «виде», впервые и определяющим для последующих двух тысячелетий образом возвышает дофилософское имя «категория» в ранг философского имени, именующего собою то, что философии по самому ее существу надлежит в ее мысли осмыслить. Это повышение слова в ранге происходит в подлинно философском смысле. Ибо под это слово не подставляется какое-то постороннее, якобы произвольно выдуманное и, как охотно говорят люди, «абстрактное» значение. Языковой и предметный дух самого слова становится указанием на возможное, временами необходимое, другое и одновременно более существенное значение. Когда мы «вот это нечто» (эту «дверь») называем дверью, в таком назывании дверью заключено уже и какое-то другое называние. Какое же? Мы его уже именовали, сказав: «вот это нечто» опознается как дверь. Чтобы то, к чему мы обращены, назвать «дверью», а не окном, имеющееся тут в виду уже должно было показать себя как « вот это нечто » – как это вот само по себе присутствующее таким-то образом. Прежде называния чего-то, имеющегося в виду, «дверью» и в самом этом назывании уже совершилось то молчаливое называние, что она «вот это нечто» – некая вещь. Мы не смогли бы назвать подразумеваемое дверью, если бы заранее уже не дали ему встретить нас в качестве чего-то вроде самой по себе имеющейся вещи. То называние «категории», что это некая вещь, лежит в основе называния «дверь»; «вещь» – более основная и исходная категория , чем дверь; а именно такая «категория», называние, которая говорит, в каких бытийных очертаниях обнаружилось именуемое сущее: что оно есть некое для себя сущее; как говорит Аристотель: некое нечто, от себя и для себя сущее. И второй пример. Мы констатируем: эта дверь коричневая (а не белая). Чтобы мы смогли назвать эту вещь коричневой, нам надо вглядеться в ее цвет. Но и окрашенность ведь тоже может быть увидена нами как вот эта и никакая другая, только если уже прежде того вещь предстала перед нами в таком-то и таком-то своем свойстве. Не затронь нас заранее и одновременно эта вещь в своем свойстве, мы никогда не смогли бы назвать ее «коричневой», т. е. окрашенной в коричневое, имеющей такое-то и такое-то свойство (качество).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: