О религии Льва Толстого
- Название:О религии Льва Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Путь
- Год:1912
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
О религии Льва Толстого краткое содержание
О религии Льва Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И все же последнего шага Толстой не решается сделать. Признать вечность индивидуальности, которая даже, как мы видели, отчасти и постулируется им, Толстой потому не мог, что заранее отверг весть Спасителя о воскресении.
Пусть обратится читатель к попыткам Толстого отстоять свое отрицание воскресения, оставаясь на почве Евангелия; пусть вдумается в то разложение пантеизма и переход к философскому плюрализму, который мы только что видели, и чем иным, как нерешительностью мысли и упорством чувства, объяснит он отношение Толстого к проблеме личного бессмертия и воскресения плоти? И какой уступкой, — после трактатов «В чем моя вера», «Критика догматич. богословия», — покажутся ему те строки, которыми заканчивается «Христианское учение», и которые дышат агностицизмом. «Будет ли божественная сущность и после смерти продолжать действовать в раздельности?» спрашивает он, и отвечает: «достоверного об этом мы ничего не знаем»… Да, не дошла до сердца Толстого весть Евангелия!
Разложение пантеизма обнаруживается у Толстого не только защитой вечности индивидуальности, но и в другом еще направлении. Поглощая личность, растворяя индивидуальное в универсальном, пантеизм отказывает Богу в личном существовании. Мы уже указывали замечание Толстого, решительно необъяснимое, что признание Бога личностью было бы ограничением. Но и у самого Толстого были яркия переживания, о которых он говорит, что чувствовал Бога как Существо. Соединимо ли это с пантеизмом?
————
Пантеистический мистицизм, которым начал Толстой как богослов, является одной из неизбежных форм, в которые отливается естественный религиозный опыт, — особенно тех, кто в своей мистической жизни живет лишь запросами ума. И невозможно отрицать относительную правду пантеистического мистицизма: мир действительно есть творение Божие, и в нем для проникающего взора всегда просвечивает Божие сияние. Но в мире так же изначально, вечно и индивидуальное: Божество Единое, и в то же время Троичное, являет нам ту же тайну неисследимого сплетения универсального и индивидуального, общего и личного, какую мы находим и в душе человеческой. Тайна собственной индивидуальности проходит для многих незамеченной, — и, глухие к собственной душевной жизни, они не воспринимают и Откровения о начале индивидуальности в сфере Высшей реальности. Неслучайно поэтому то, что Толстой прошел не только мимо тайны индивидуальности в человеке, но и мимо Откровения о Троице…
Оторвав в человеке высшую жизнь от потока душевных явлений, Толстой ограничил бессмертие лишь этой высшей сферой, — и отрицание индивидуального бессмертия было для него совершенно неизбежным логическим выводом. Даже учения о переселении душ, — этой единственной, хотя и неудачной попытки внецерковной мысли отстоять стойкость индивидуальности, — не мог принять Толстой (см. «Христианское учение», стр. 100), так как оно приписывает индивидуальности бессмертие. Но не сам ли Толстой так хорошо показал, что истинный смысл индивидуальности раскрывается именно в разумном «я»? Не сам ли он, забыв свое учение об исчезновении личности в Боге, под конец сознался в том, что судьба начала индивидуальности загадочна?
Агностицизм, которым кончил Толстой, есть беспощадный и бесповоротный приговор его собственной религиозной системе. Правда, Толстой сам сознается, что его учение о бессмертии в нас нравственно-разумного «я» — «малое», — но отвечает ли оно в сущности на тот вопрос, с которого начал Толстой? Устанавливает ли оно связь конечного с бесконечным, личности с Богом? Нет, нет! Трагедия личности, та ее тоска об осмысленном существовании, то ее стремление к вечности, которыми началась религиозная жизнь Толстого, не находят себе разрешения в религиозной системе Толстого. Жажда бессмертия, возникающая в пределах личности, для того только и просыпается, по Толстому, в нас, чтобы мы вышли за пределы личности; она манит к себе, она волнует личность лишь для того, чтобы сердце наше, с разбитыми надеждами на личное бессмертие, навсегда отвернулось от любви ко всему личному, индивидуальному, чтобы научилось оно любить лишь Бога в мире и презрело всю эту дивную красоту индивидуального, Богом же созданного!…
Слияние с Богом до потери личности, как я указывал, может быть желанным лишь для той стороны нашего существа, которая обращена к Богу. Для себя я могу удовлетвориться им, я даже жажду и жду этого слияния — да придет оно! Но другие люди, которых я люблю? С их исчезновением никогда не помирится сердце, и единственный ответ, который разрешает мне требования моего сердца, есть Откровение о личном бессмертии, о воскресении плоти. И кто только услышит весть эту, тот пойдет в Церковь, чтобы опытно постигнуть силу и правду этой вести.
Отчего же Толстой не пошел в Церковь? Отчего не внял он словам Спасителя?
Не каждому из нас дано вместить все, не каждому из нас дано в полноте вместить всю сумму запросов ума и сердца, на которые отвечают религия и наука. Как в знании, так и в вере бывают широкие и ограниченные запросы — и в этом нет беды. Есть люди, для которых центральное в учении Христа — учение о том, как жить, — и для них все Откровение о будущей жизни не является живой, животворящей перспективой; есть другие, которые еще уже усваивают учение Христа: не только отвергают они метафизику, но и из этики остановятся лишь на чем нибудь одном. Пусть! Да будет позволено каждому индивидуально и самостоятельно идти за Христом, как он разумеет. Но именно в силу этой индивидуальной ограниченности каждого мы и находим восполнение в Церкви, которая в полноте хранит всю сокровищницу Откровения; индивидуальная апперцепция учения Христа вполне законна до тех пор, пока она не выдает части за целое, пока свое, ограниченное толкование она не выдает за всю полноту Откровения. А это именно и случилось с Толстым. Если ему было радостно и легко жить с тем, что он нашел в Евангелии — слава Богу; но когда он, опираясь исключительно на лично пережитой религиозный опыт, попытался им осветить всю систему религиозных проблем, он дал и произвольное толкование Евангелия, и пантеистическое учение о Боге и мире, и свою теорию о бессмертии разумной жизни. Не Толстой впервые почувствовал вневременный, бессмертный смысл нравственной жизни: не говоря уже о восточных религиях, в Европе Аристотель, с его учением о вечности «деятельного разума», стоицизм, средневековье, примыкавшее к Аристотелю, особенно Аверроес, наконец пантеистические системы нового времени, — все защищали ту же религиозно-философскую концепцию, что и Толстой. Но никто из защитников пантеизма не выдавал его за учение Христа, Толстой же — и это замечательно и, если хотите, трогательно в нем — не мог отойти от Христа, хотя на самом деле верил совсем не в то, о чем учил Христос.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
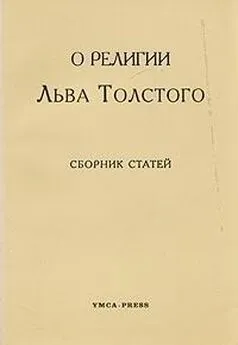


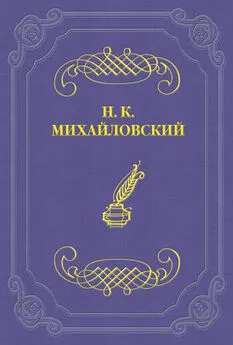

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)

