О религии Льва Толстого
- Название:О религии Льва Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Путь
- Год:1912
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
О религии Льва Толстого краткое содержание
О религии Льва Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конечно, кое-где можно найти намеки на то, что Толстой, уже ставши на почву агностицизма, в своих колебаниях доходил до признания индивидуального бессмертия, — но чего никогда не мог он понять, даже мистически — это воскресения плоти. Для Толстого проповедь о воскресении Спасителя осталась, как для эллинов, безумием… Со своим крайним спиритуализмом Толстой не мог понять метафизического смысла факта Воскресения Христа, не мог он оценить всю глубину и ценность того, что дает этот факт для размышляющего сознания. Предпосылки, из которых исходил Толстой, сделали с ним то же в вопросе о воскресении плоти, что делает зачастую современная наука вообще с религиозными проблемами. Как многие ученые с упорством слепых и глухих не видят и не слышат ничего, кроме того, что позволяют им видеть и слышать их мнимо безусловные принципы, так и Толстой, односторонне спиритуалистически понимавший духовную жизнь человека, доходил до недопустимых натяжек, лишь бы, оставаясь с Евангелием, отвергать воскресение.
Вспомним учение Толстого о вечной жизни, раскрывающейся в разумном сознании. Мы видели, что всецело отрывая ее от потока душевной жизни личности, Толстой вовсе не решает своей нравственной проблемы — связать конечное с бесконечным, так как бессмертие принадлежит у него не тому, что тоскует и жаждет его, не конечному, не ограниченному, не личности, а тому, что бессмертно по самой своей природе , как вневременное бытие, что безлично, универсально, тождественно во всех людях. Бессмертие поэтому и не может быть задачей человеческой деятельности, так как то, что жаждет бессмертия (личность), его не получает; единственное же разрешение проблемы, предлагаемое Толстым, заключается в утверждении не того, что конечное связано с бесконечным, а того, что, помимо конечного, в нас есть бесконечное. Оно вне времени и в этом смысле всегда есть, но если нам хочется актуально чувствовать себя неподвластными смерти, то мы и должны «развивать» в себе высшую жизнь, т. е. помогать ей осуществляться в личной жизни. Решается поэтому, как видим, не тот вопрос, который возникает в нравственных переживаниях личности; ведь личность, и только она , спрашивает себя: что мне делать, чтобы моя деятельность имела неуничтожаемый и разумный смысл? На этот вопрос не дает никакого ответа Толстой, хотя его дал Христос в учении о спасении. Добавлю: лишь та нравственная деятельность может быть признана «разумной», которая делает возможным и нужным мое усилие, усилие моей личности. Бессмертие же, о котором учит — в своих уклонах в сторону пантеизма — Толстой, в сущности, недостижимо, потому что оно и без стремления к нему есть , было и всегда будет присуще тому бесконечному, что есть в нас. Не личность спасается, по Толстому, а нужно спастись от личности… Да, это единственный исход для Толстого: нужно запросы личного бессмертия, запросы моего участия в бесконечности подавить, устранить; без этого, Толстой это чувствовал, его учение не может удовлетворить и его самого. Но если нравственная деятельность всегда возникает как проблема личности , как служение лично пережитой и лично дорогой цели, — то очевидно, что учение Толстого не разрешает той трагедии, которую он сам пережил до религиозного переворота. Лишь личное бессмертие действительно делает неизбежным мою личную нравственную работу, лишь оно одно зажигает нравственную энергию.
Но отделение разумной жизни от жизни личности не только этически бесцельно, оно непроводимо и психологически. Вневременность характеризует не только разумно нравственные переживания: она еще резче нами чувствуется в логических операциях. И если Платон, — с которым вообще есть немало пунктов сближения у Толстого, — высоко ценя этот вневременный характер высшей теоретической жизни, настолько резко отделял ее от опыта, от действительности, что иногда даже проникался презрением к действительному миру, — то уже реакция Аристотеля показала, что логические функции нашего ума только на предметах опыта и могут обнаружить свою ценность. Христианство, при всей своей духовности, также не отрывало людей от земли и учило не спасению от личности, от плоти (как этому, напр., учили гностики [20] С гностиками в их учении о спасении у Толстого есть несомненное сходство.
, а преображению плоти, спасению и воскресению ее. В этом смысле христианство всегда тяготело к земле, к действительности, оно признает даже, если хотите, относительную правду материализма.
Но Толстой, с характерной для него философской близорукостью, пытался оправдать отделение разумной жизни, отрывая ее от живого потока душевного бытия, — сам не замечая того, что противоречит себе. Если она непроизводна, и если это позволяет ее отрывать, не нарушая ее реальности , от личности, то как понять, что личность переживает как свою задачу то, что на самом деле возникает не в ней? Я соглашусь с непроизводностью всего содержания разумной жизни (не только этической, но и теоретической), — но всякая высшая функция не может быть оторвана от личности, которая ее чувствует и переживает как свою. И как возможно самосознание без высшей функции разума? Толстой сам превосходно развил эту мысль; как же не понял он, что то, что реально обусловливает самосознание, лишь в нем себя и реализует ? Чем будут содержания разумного сознания без того «я», которое их переживает?
Если древняя психология кое-как мирилась с разделением души на три части, то теперь, после того как успехи психологического анализа если не раскрыли нам природу души, то все-же показали всю целостность и единство душевной жизни, — читать у Толстого его психологические выводы трудно без того, чтобы не вздохнуть о нем. Для нас бесспорно, что не только «дух», высшие духовные функции неразрывно связаны со всей полнотой душевной жизни, — но что они (через душу) связаны и с телом. Цельное существо человека, как оно есть, несмотря на тройственный свой состав, метафизически едино, — и учение о бессмертии, в свете всего того, чему учит анализ души, философски может быть оправдано лишь как учение об индивидуальном бессмертии, лишь в христианском смысле, — т. е. как воскресение цельного человека.
Ложный спиритуализм философски ослепил мысль Толстого, а этический универсализм помог ему удовлетвориться его односторонней концепцией. Однако психологическая и этическая неудовлетворительность [21] Напомню читателю учение Н. Ф. Федорова, превосходно показавшего этическую неизбежность проблемы всеобщего воскресения.
учения Толстого не разрешают религиозной стороны нашего вопроса: может быть, Толстой неправ психологически и этически, но, может быть, он прав религиозно, следуя своему толкованию «учения Христа». Может быть, его толкование учения Спасителя, будучи само по себе неудовлетворительно, все-таки соответствует действительному смыслу Евангелия?
Интервал:
Закладка:
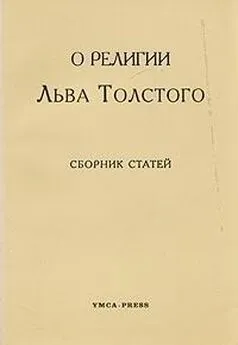


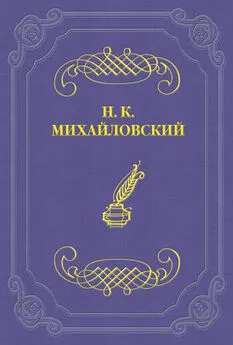

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)

