О религии Льва Толстого
- Название:О религии Льва Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Путь
- Год:1912
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
О религии Льва Толстого краткое содержание
О религии Льва Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мистик универсализма, — вот кем выступает перед нами в этом своем учении Толстой. Но не будем пока критиковать и дополнять его: предоставим это ему самому. Толстой был слишком чутким и глубоким человеком, чтобы не задыхаться в этих узких рамках, в которые он втиснул мятущуюся в тоске о бессмертии душу. Он сам не удержался на позиции пантеизма — и, не поняв, не восприняв подлинного учения Христа, смог повернуться лишь в сторону агностицизма…
Еще в «Критике догматического богословия» читаем мы: «Тем-то и возмутительно (!) христианское учение [19] Т. е. учение церковного христианства.
, что оно заставляет (!) ставить вопросы, на которые нет и не может быть ответа». Как невольно отразилась в сердитом и даже злобном тоне этих слов неудовлетворенность Толстого своим собственным учением! Недаром он утешает себя, что хоть оно мало, но зато «верно», недаром меланхолически замечает, что личное бессмертие может быть было бы справедливее… Но вот слова Толстого более определенные: «Убеждают в необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезает там, в нигде , и ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда».
В сущности, в этих словах дано все, что говорит нам об индивидуальном бессмертии естественный, внецерковный религиозный опыт. Если вечность, вневременность универсального может быть пережита всяким, кто сознает в себе разумную жизнь, то индивидуальное бессмертие есть проблема, которую неустранимо пред нами ставит опыт, но которую он сам решить не может. Надо еще добавить: те, кто думают о своем бессмертии, смогут, пожалуй, удовлетвориться пантеистическим признанием, что бессмертно все « разумное , доброе » в нас. Скажу больше: человек, чем глубже общается он с мировой жизнью, с Высшей Реальностью, тем полнее он будет переживать жажду полного слияния с Абсолютом, тем пламеннее будет стремиться утонуть в беспредельном существе Бога, тем глубже будет тяготиться своей личностью, как ограничивающей его чувство. Уже в любви одной души к другой мы всегда найдем эту невыразимо манящую жажду исчезнуть в другой душе, слиться с ней без конца, без дум, перестать быть отдельным существом. Да, все это так, и проблема моего личного бессмертия, решенная в пантеистическом смысле, не будет тревожить меня. Но если мне дорого другое существо, то дорого в нем не то безличное, общечеловеческое, что есть в нем, а оно все целиком, во всей неуловимой, неизъяснимой прелести своей индивидуальности, во всей зовущей тайне своей своеобразной, единственной и неповторимой личности. Сердце мое с неискоренимой мистической устойчивостью тоскует именно об индивидуальном бессмертии, именно о воскресении полного человека, и до чего же нужно было быть погруженным в себя, в свою душевную жизнь, чтобы писать, как это писал Толстой, что воскресение плоти есть грубое, дикое представление! До кого дошла эта дивная весть, драгоценнейшее обещание Спасителя, тот поймет его правду по той мистической тоске о вечной жизни, которая загорается в нас неугасимым огнем при смерти дорогого и близкого нам существа.
Учение об индивидуальном бессмертии, о воскресении плоти — это дивное Откровение, наполняющее невыразимой радостью нас всех, когда слышим мы ликующее «Христос Воскрес!» — есть неизъяснимо глубокое учение. В нем ключ ко всей метафизике мира, в нем разрешение всех проблем, — и какой поэтому бедностью мистической жизни, бедностью философского чутья веет с тех страниц Толстого, где он, правда не без вздохов грусти, отказывается от вести о воскресении плоти! Признать его Толстой не мог потому, что оно не было, да и не могло быть пережито в его мистическом опыте, — и хотя есть много, много данных в защиту индивидуального бессмертия, но как живой факт оно раскрывается лишь в церковном общении: воскресение плоти есть Откровение, а живая реальность его усвоивается лишь живущими в Церкви (вспомните: «Воскресение Христово видевше …»).
Толстой в сущности не раз сознавал, что отрицать индивидуальное бессмертие нет основания, но и признать его ему мешало — да простится это слово о покойном — гордость, нежелание отказаться от узости и внять Откровению. Если к этому присоединить односторонность его мистической жизни, мало дававшей места голосу сердца, то будет понятно, что единственная позиция, на которую мог стать Толстой, когда в нем заколебался пантеистический взгляд на человека, был агностицизм. Уже в превосходных страницах в трактате «О жизни», Толстой, показывая, что истинная индивидуальность выступает в разумном «я», дает нам такую характеристику этого разумного «я», которая совершенно не вместима в рамки пантеизма, а неизбежно ведет к утверждению метафизической стойкости индивидуальности, к философскому плюрализму. Ведь характеристика «я», как неповторимого своеобразия, как особенного отношения к миру, рисует нам разумную жизнь не в ее общечеловеческой стороне, а именно в ее индивидуальной основе. Конечно, этим мыслям, а не мистическим запросам чувства, почти нигде не выраженным, нужно приписать то, что Толстой, утверждавший тождество Бога и разумного я, потом переходит к агностицизму. «Человек не может (!) не спрашивать, — пишет Толстой, критикуя самого себя, — для чего Бог, существо духовное, единое и нераздельное, заключил себя в отдельные существа и в тело отдельного человека?» Это возражение против пантеизма, которое еще Платон развил в глубокомысленную богословскую концепцию, Толстой разрешает ссылкой на непостижимость высшей воли. Впрочем, в другом месте («Христианское учение», стр. 18) он пытается метафизически обосновать «разделение Бога» (довольно часто встречающееся выражение у Толстого) тем, что лишь таким образом возможно самосознание. Заметим только, что проблема самосознания Бога была разработана еще Аристотелем, — и лишь слабостью философского дарования можно объяснить шаткость этого пункта в системе Толстого. Часто кажется при чтении богословских трактатов Толстого, что он никогда не умел подняться до последовательного и ясного мышления и лишь формулировал те (часто противоречивые) переживания, которые он имел… Ведь если «разделение» Единого Бога делает возможным самосознание Его, — то не следует ли отсюда вечность этого раздробления Бога на отдельные существа? И вот в той же главе читаем мы строки, как будто выражающие именно эту мысль: «Наша любовь к тому, что доступно нам, — говорит Толстой, — составит в будущей жизни одно целое существо, которое будет близко нам, как наше собственное тело». Кто это «мы», которым новый коллективный организм будет близок, не берусь решать; индивидуальное ли я (равное в то же время Богу), или нет, не знаю, — но не защищает ли эта мысль (комментирующая, по Толстому, глубокие слова Спасителя: «У Отца вашего обителей много») философский плюрализм?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
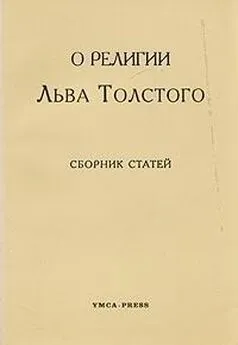


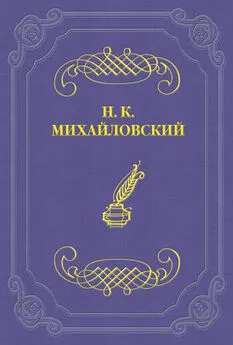

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)

