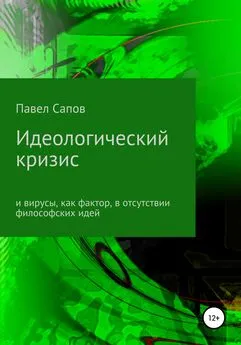Людмила Микешина - Философские идеи Людвига Витгенштейна
- Название:Философские идеи Людвига Витгенштейна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1996
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Микешина - Философские идеи Людвига Витгенштейна краткое содержание
Философские идеи Людвига Витгенштейна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кроме того, существенно, что оба они по-разному понимают так называемый "личный язык". У Крипке фактически речь идет о языке изолированного (одинокого) человека, причем специально не говорится ни о каком сугубо приватном объекте, обозначаемом знаками этого языка, или об абсолютной недоступности такого языка для других. В его постановке вопроса именно общество блокирует опасную возможность, что все, что подобный субъект считает правильным, будет правильным. Согласие владеющих языком членов сообщества лежит в основе приписывания значения словам и соответствия действий правилам. Но, по Витгенштейну, согласие говорящих лишь проявляется в следовании правилу, а не обосновывает его, напоминает в этой связи Голдфарб.
Сценарий витгенштейновского мысленного эксперимента с числовым рядом [51] Это один из самых известных примеров: "...Итак, если следовать обычным критериям, наш ученик освоил ряд натуральных чисел. И сейчас мы обучаем его написанию других рядов кардинальных чисел, обращая внимание, в частности, на написание ряда вида 0, n , 2 n , 3 n , и т.д. по указанию "+n"; так что по указанию "+1" он пишет ряд натуральных чисел. И представим себе, что мы выполнили упражнения и проверили его на числах до 1000. А затем мы заставляем его продолжить ряд (скажем, +2) за пределы 1000 - и он пишет 1000, 1004, 1008, 1012. Мы говорим ему: "Посмотри, что же ты сделал!" - Но он не понимает. Тогда мы говорим: "Предполагалось, что ты должен был прибавлять два , но посмотри, как же ты начал ряд!" - Он отвечает: "Да, а разве это неправильно? Я думал, что мне полагалось это делать именно так" ( Wittgenstein L. Philosophical Investigations. § 185).
, отмечает американский исследователь, отнюдь не предназначен показывать, будто вообще ничто не детерминирует способность продолжать ряд. Просто Витгенштейн обратил внимание на характерный случай, когда мы ошибочно посчитали, что ученик правильно понял нашу инструкцию. В § 201 же с особой силой подчеркивается, что у нас нет концепции, нет готовой модели правильного продолжения числового ряда.
Английский специалист по Витгенштейну Д.Пэрс обратил внимание на то обстоятельство, что Крипке еще в своих публикациях 70-х годов доказывал, будто витгенштейновская позиция относительно следования правилам и приватного языка полностью формулируется до § 243 "Исследований" [52] Pears D.F. The Origin and Development of Wittgenstein's Treatment of Rule-Following // The Tasks of Contemporary Philosophy. Proceedings of the 10th Wittgenstein Symposium. Vienna, 1986. Part 1. P. 420.
. Дальнейшие рассуждения Витгенштейна Крипке квалифицировал как простое приложение аргумента личного языка к случаю с ощущениями. Но это, убежден Пэрс, явное заблуждение, ибо до и после § 243 мы имеем дело с двумя разными аргументами. В последнем случае аргументация направлена против теории восприятия, аналогичной той, которую развивал в 1912 году Б.Рассел. В соответствии с ней наше непосредственное знание "чувственных данных" (sense-data) обязательно предшествует тем или иным истинам о физических объектах внешнего мира.
Продолжая свою мысль, Пэрс указывает, что обе линии аргументации Витгенштейна фокусируют противоположные аспекты взаимоотношения языка и мира. Второй аргумент, начинающийся с § 243, касается конкретной цели и особых ограничений, накладываемых на ощущения. Первый аргумент, напротив, имеет общий характер и относится к любым ситуациям в языке описания, а не только к ситуациям с ощущениями. И данный аргумент, в противовес мнению Крипке, не является подлинным аргументом личного языка. Более того, фиксируемый им скептический парадокс относительно следования правилу, на самом деле оказывается попыткой свести к абсурду определенную платонистскую версию, абсолютизирующую ментальную "экипировку" следующего правилу субъекта. То, что Витгенштейн называл "наш парадокс", не есть явление, внутренне присущее процессу "следования". Парадокс возникает лишь в контексте ошибочной платонистской теории значения.
Каково же подлинное соотношение обоих аргументов?, - спрашивает Пэрс. - Если говорящий пользуется своим языком правильно, в соответствии с принятыми нормами употребления, то выражаемая в нем истина о чем-либо должна быть логически независимой от ментальной "экипировки", якобы обеспечивающей это выражение. Но всегда существует опасность утери подобной независимости. Это может произойти двумя разными путями. Так расселовская теория языка ощущений приводит к утере независимости в том, что касается объективной стороны (Пэрс имеет в виду концепцию физических объектов как логических конструкций из "чувственных данных"). Атакуемый же до § 243 платонизм нарушает независимость в субъективном плане, преувеличивая ментальную детерминацию поведения. Утеря независимости прямо связывается Витгенштейном с приватностью. Тот гипотетический язык, который он критикует, начиная с этого параграфа, принципиально недоступен обучению, а реализуемые в нем цели вообще не относятся к внешнему миру, не способствуют коммуникации [53] Вот его собственное мнение на этот счет: "...Отдельные слова данного языка должны указывать на то, что может быть известно только говорящему, на его непосредственные личные ощущения. Так что никто другой никогда не сможет понять этот язык" ( Wittgenstein L. Philosophical Investigations. § 243).
.
С.Шенкер [54] Shanker S.G. Sceptical Confusions About Rule-Following // Wittgenstein L. Critical Assessments. L., 1986. Vol. 2.
также обнаруживает у Крипке искажение истинной интенции витгенштейновской аргументации. Шенкер считает, что § 201 был сформулирован для того, чтобы заставить нас сделать вывод о логической невозможности гипотезы скептика. Витгенштейн в "Исследованиях" часто обращается к арифметическим примерам, так как они наиболее отчетливо показывают характерные заблуждения по поводу следования правилам. Многие уповают на то, что алгоритмическое вычисление устанавливает стандарт следования правилу, ибо оно-де обладает иммунитетом против возможных ошибок будущих математических ходов. Однако, справедливо замечает Шенкер, никакие правила или функции сами по себе не могут однозначно детерминировать все будущие ситуации. Это мы конституируем то, что является следованием правилу или верным вычислением функции. Правила "направляют" наше поведение только потому, что мы осуществляем и направляем свои действия, ссылаясь на правила. Иллюзорная "необходимость" правил отражает лишь факт их реализации, неизбежность их применения.
Крипке, продолжает Шенкер, точно обрисовал преобладающее у Витгенштейна мнение о том, что в основе правил лежит социальная практика, нормативное поведение людей. Различные виды совместной деятельности суть контексты для следования правилам. Однако Крипке не объяснил сам нормативный характер следования, основание нашего убеждения в том, что некто, с кем мы имеем дело, освоил правило. Хотя и справедливо полагают, что Крипке удалось идентифицировать очень важную проблему, его восприятие этой проблемы прямо противоположно восприятию самого Витгенштейна. Вообще в новейшей философии, отмечает Шенкер, проявляется беспокойство по поводу трудности объяснения, почему мы можем быть уверены в том, что кто-то действительно последовал правилу. При этом не учитывают, что Витгенштейн показал обманчивость самого вопроса. И задача лингвистического аналитика заключается только в прояснении критериев для описания того или иного поведения в качестве нормативного, а не в поиске "глубинных" объяснений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



![Людвиг Витгенштейн - Философские исследования [litres]](/books/1057650/lyudvig-vitgenshtejn-filosofskie-issledovaniya-litre.webp)