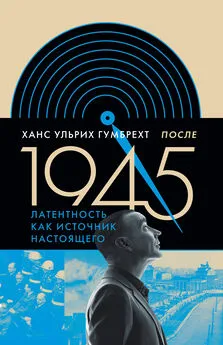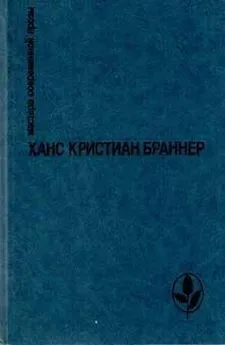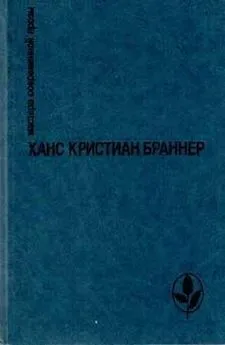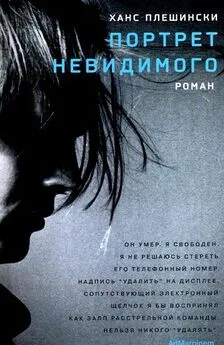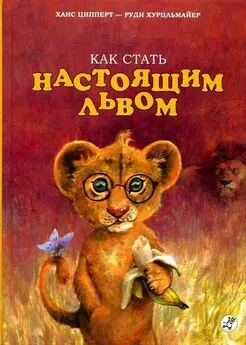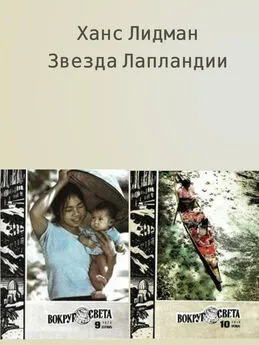Ханс Гумбрехт - После 1945. Латентность как источник настоящего
- Название:После 1945. Латентность как источник настоящего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1003-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ханс Гумбрехт - После 1945. Латентность как источник настоящего краткое содержание
После 1945. Латентность как источник настоящего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Где ты, Другой? Ведь ты всегда был рядом! Где ты теперь, Утверждатель? Отвечай! Сейчас ты нужен мне, Отвечающий! Тебя вдруг не стало! Где ты, Отвечающий, где ты, который запрещал мне умереть? И где тот старик, чье имя Бог?
Почему он молчит???
Отвечай!
Почему все молчат? Почему?
Неужели некому ответить?
Нечего ответить?
Нечего ответить??
Неужели никто ничего не ответит??? [24]
Обе послевоенные пьесы – Сартра и Борхерта – сообщают нам чувство, что среди людей ничто и никогда не бывает ни естественно добрым, ни избавленным от конфликта. Персонажи всегда будут чувствовать, что присутствие других либо вторгается в их жизнь, либо полностью их исключает; и равным образом они узнают, что и сами неизбежно оказывают такое же воздействие на других. Та навязчивая интенсивность, с которой именно ощущение пространства передает состояние людей после 1945-го, не просто метафора. Скорее это предполагает, что в данный исторический момент то, что есть неправедного в наших отношениях с другими, всегда или по крайней мере частично проявляется еще и в виде физического дефекта: оно производит телесную боль и через тело открывает опыт потревоженного пространства. Это состояние, во всей своей сложности вызывает желание исцеления и в то же время пробуждает мечту – или даже память – о том, что все может быть и по-другому, и что на самом деле все было другим, и что однажды, может так случиться, оно снова изменится и станет «благом». Но этот другой мир остается латентным, ибо он существует смутно, лишь в нашем желании перемены обстоятельств.
Отчаяние от невозможности выйти и отчаяние от невозможности войти, которые задали фокус нашему рассмотрению «За закрытыми дверями» Сартра и «Там, за дверью» Борхерта, повсеместно присутствуют в корпусе текстов, написанных после Второй мировой войны, и не только в тех сочинениях, что были созданы в странах – участницах боевых действий. Мы начинаем понимать, до какой степени – по крайней мере в условиях того совершенно особого времени – эти два topoi (и вновь мы берем здесь слово topoi как обозначение, по крайней мере частичное, «пространств» или «форм пространства» в буквальном смысле) труднее различить между собою, чем кажется на первый взгляд. То же самое верно, как мы уже видели, и в случае различения действия / агрессии, с одной стороны, и жертвенности, с другой. Конечно, в качестве различных сторон опыта они совсем не одно и то же, точно так же для отношений между ними не характерны переменчивость и нестабильность. Напротив – и это очень похоже на Гегеля с его описанием «диалектики раба и господина», – нет ни одного состояния жертвенности, которое в конечном счете не обнаруживало бы в себе агрессию (и наоборот). И все же, несмотря на эту глубокую взаимосвязь, я хотел бы показать – сначала в случае «нет выхода», а потом в случае «нет входа», – насколько эти мотивы господствуют над всевозможными текстами, сочиненными для выполнения очень разных функций. И тогда в процессе разбора мы придем к более глубокому пониманию как асимметричности отношений, так и неразрывности, существующих между этими topoi .
Навязчивое желание невозможного выхода часто вступает в противоречие с кошмаром выхода во внешнее пространство, которое удаляется от нас по мере продвижения в него. Так что желание выйти может внезапно трансформироваться в желание остаться внутри. Наиболее радикальное и разрушительное усиление мотива «выхода нет» проявилось в одном так никогда и не оцененном по достоинству испанском романе 1962 года. Сцена, о которой идет речь, взята из романа «Время тишины» Луиса Мартина-Сантоса и рассказывает о неудачном аборте, закончившемся смертью. Молодая женщина – девушка, которая умрет, – забеременела после многократного изнасилования собственным отцом, происходившего регулярно в присутствии всей семьи. Отец одновременно и матери, и не рожденного ею ребенка без всякого смущения и при полной поддержке всего клана хочет вызвать смерть и извержение плода на уже довольно поздней стадии беременности:
Он заставил круглое, крепкое тело своей жены сесть на живот их дочери, полагая, возможно, что таким образом удовлетворит как требованиям физической гравитации, так и требованиям приличия; в то же время он обвязывал веревку вокруг тела девушки, начав где-то на уровне пупка и стягивая все больше по мере приближения к ее расширяющимся бедрам; потом он отпустил веревку, оставившую след на коже девушки, и сам надавил ей на живот, стягивая его книзу обеими руками, стараясь вытеснить из нее весь материал плода, а также всю мочу, которая еще содержалась внутри ее тела; он заставлял ее пить очень горячие жидкости с растворенными в них секретными смесями, которые обжигали рот этой ни-матери-ни-девственницы; он лил холодную воду на ее живот и кипящую воду с чуточкой горчицы ей на бедра; и наконец, начав немного потеть, он заявил, что вытянет «это» собственными руками, что оказалось совершенно невозможным…
Жена его, наоборот, считала, что будет хорошо положить немного фенхеля между ног дочери, потому что запах привлечет младенца [25].
Отец девушки оказывается случайно знаком с молодым доктором, которого зовет скорее из нетерпения, чем из чувства жалости или ответственности. Когда доктор приезжает и начинает распаковывать свой инструментарий, то понимает, что опоздал: что бы там ни было в этой матке, оно уже мертво и никогда не покинет тела матери.
Нет никакого выхода вовне, и всякая попытка покинуть «внутреннее» смертельна. Это и есть самый драматичный из сценариев той клаустрофобии, что преследовала послевоенное десятилетие. То, что окружает, составляет и содержит в себе это внутреннее, может быть очень хрупким – как тело беременной девушки, и все же оно упорно высиживает это внутреннее, сопротивляясь любым попыткам бегства вовне. При этом внутреннее часто само порождает невыносимую атмосферу, которая еще больше усиливает желание его покинуть – желание, которое затем трансформируется в простую потребность выжить. Все, что можно сказать как о психологической реальности про комнату из сартровской пьесы «За закрытыми дверями», где Эстель, Инэс и Гарсэн не могут ни умереть, ни закрыть глаза, можно увидеть в пространственной логике города Оран из «Чумы» Альбера Камю. Здесь чума захватывает всех и вся, а у горожан нет ни шанса убежать:
По сравнению с влажной жарой нынешней весны даже летний зной казался желанным. В городе, лежащем в виде улитки на плоскогорье и только слегка открытом морю, царило угрюмое оцепенение. Люди, зажатые между бесконечными рядами ветхих стен, в лабиринте улиц с пыльными витринами, в грязно-желтых трамваях, чувствовали себя в плену у этого неба. Один только старик, пациент доктора Риэ, ликовал – в такую погоду астма его оставляла [26].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: