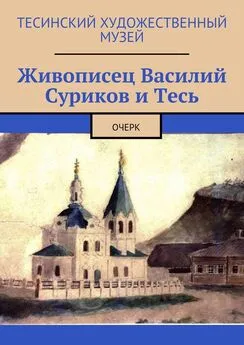Вадим Васильев - Сознание и вещи. Очерк феноменалистической онтологии.
- Название:Сознание и вещи. Очерк феноменалистической онтологии.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный дом «ЛИБРОКОМ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-397-04182-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Васильев - Сознание и вещи. Очерк феноменалистической онтологии. краткое содержание
Сознание и вещи. Очерк феноменалистической онтологии. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В случае влияния наших желаний на поведение речь, похоже, идет именно о такой ситуации. Мы не можем исключить, что наши действия вызываются вовсе не скоррелированными с ними желаниями, а какими-то нейронными процессами в мозге, онтологически реально отличными от желаний. Поэтому, наблюдая за корреляцией наших желаний и поведенческих актов, мы не вправе делать общий вывод о каузальном влиянии ментального на физическое. И мы не знаем, как отключить желания, чтобы проверить это. Что-то мы, конечно, можем отключить. Мы можем отключать, т. е. как бы выносить за скобки, сознание, и мы видим, что бессознательные поступки людей порой мало отличаются от сознательных. Но выключение сознания не равнозначно выключению ментального: не исключено, что подобные поступки все же сопровождаются ментальными процессами, бессознательными желаниями. К этому различению мы еще вернемся, пока же мы можем только констатировать, что, если обсуждение этого вопроса не выйдет на какой-то другой уровень, перспективы онтологии ментального будут очень туманными.
В самом деле, о какой онтологии ментального можно будет говорить, если мы не в состоянии прояснить вопрос о его каузальной действенности. Каузальные характеристики имеют ключевое значение для понимания онтологического статуса любой вещи, и хотелось бы все же разобраться в них.
К счастью, мы действительно можем выйти на другой уровень и придать рассмотрению нашего вопроса подлинно концептуальный характер. Возможность такого выхода связана с одной из важнейших черт ментального. Эту черту нередко именуют «приватностью». В непосредственном опыте мы могли бы и не замечать ее, потому что данность нам физических объектов не слишком отличается от данности нам наших ментальных состояний.
Но в этом самом опыте среди физических объектов нам встречаются живые существа. Допустим, мы видим шар-рыбу. В отличие от ситуации, когда мы, к примеру, рассматриваем мяч или воздушный шарик, мы будем склонны предположить наличие у этого ядовитого и опасного существа каких-то, пусть и самых примитивных, желаний и образов. Характерно, однако, что мы не можем быть уверены в их существовании. Дело в том, что мы не можем непосредственно наблюдать их в опыте — так, как мы можем непосредственно наблюдать окраску этой рыбы или чувствовать укол ее шипов. И даже если мы твердо верим в существование ментальных состояний у какого-то существа, мы далеко не всегда можем конкретно представить их, далеко не всегда можем вообразить, «каково это», по словам Т. Нагеля [41] Cm.: Nagel T. What is it like to be a bat? // Philosophical Review. 1973, №83: 4. P.435-450.
, быть им.
Конечно, если мы говорим о существах, подобных нам самим, о людях, то мы можем вообразить, каково это быть тем или иным человеком. Но из этого не следует, что мы непосредственно наблюдаем ментальные состояния этого человека, его убеждения, образы, эмоции и желания. Они все равно сокрыты от нас и являются предметом веры, а не непосредственного опыта.
Одним словом, мы допускаем существование ментальных состояний у других людей, непосредственно они не даны. Но из того, что они непосредственно не даны нам, не следует, что они вообще непосредственно не даны. Мы считаем, что они непосредственно даны их обладателю. В этом состоит важное отличие ментальных данностей от физических объектов: физические объекты, т. е. пространственные вещи, существующие независимо от нашего восприятия, могут, как мы верим, быть непосредственно даны многим людям, тогда как ментальные объекты — только кому-то одному. Это и означает, что они приватны: они существуют, но скрыты от глаз других людей.
Вера в приватность ментального, как можно попробовать показать, встроена в наши обыденные представления о самих себе, хотя ее характеристики, как уже отмечалось, могут и не быть рефлексивно осознаны. Вспомним рассуждения о структуре экзистенциальной веры в предыдущей главе. Мы видели, что моя вера в существование невоспринимаемого физического объекта предполагает, во-первых, допущение того, что я мог бы сейчас воспринять его, и, во-вторых, что некий наблюдатель мог бы констатировать, что мое появление в его окрестности не сопровождалось бы появлением этого объекта. Если представить, что второе условие не может быть удовлетворено, то эта вера не возникнет без содействия каких-то других факторов. И наоборот, если экзистенциальная вера автоматически не возникает при наличии первого условия, то логично предположить, что не соблюдается второе условие.
Именно это, судя по всему, и происходит с нашими убеждениями о собственных ментальных состояниях. К примеру, если я чувствую радость от чего-то, а затем на что-то отвлекаюсь, то, хотя я верю, что могу вернуться к радостным переживаниям и мог бы испытывать их в этот самый момент, я далеко не уверен, что радость продолжает существовать в тот момент, когда она не ощущается мной. И уверенность не возникает именно потому, что я исключаю возможность наличия какого-то стороннего наблюдателя моей радости. Но это и значит, что я считаю ментальные данности приватными.
На этом можно было бы и остановиться, тем более что рассуждения о приватности ментального распространены в философской литературе, однако противник приватности ментальных состояний может попытаться выявить ошибочность подобных убеждений. Тонкость в том, что, хотя действительно невозможно отрицать, что ментальные состояния других людей непосредственно не даны нам, эта констатация не равнозначна утверждению, что они не могут быть даны нам. А ведь если они могут быть даны и лишь труднодоступны, то о приватности можно говорить исключительно в условном смысле, и приватным тогда вполне может быть и физическое.
В самом деле, нельзя ли, к примеру, было бы получить доступ к ментальным состояниям других людей, подключившись к их мозгам? Сейчас, конечно, нам трудно представить, как именно это можно сделать, но в будущем нейронаука и нейрохирургия, возможно, решат эту проблему. Присоединившись к нейронным сетям другого, я смогу непосредственно наблюдать внутренний мир этого человека [42] Cp.: Ramachandran V. S., Hirstein W. Three laws of qualia: What neurology tells us about the biological functions of consciousness, qualia and the self // Journal of Consciousness Studies. 1998. №4: 4-5. P.432.
. И значит, ментальные состояния не приватны.
Это рассуждение может показаться правдоподобным, но оно, похоже, ошибочно. Задумаемся сначала о схеме обсуждавшегося подключения. Есть я и мой мозг и другой с его мозгом. И есть некая соединяющая их физическая среда, скажем, нейронные окончания, идущие от одного мозга к другому. Допустим, другой человек воображает красный шар. Наличие этого образа сопровождается определенного рода активностью каких-то коалиций нейронов его мозга. Соответствующие паттерны этой активности передаются от его мозга по соединяющим нас нейронам в те участки моего мозга, которые отвечают за наличие субъективного осознания форм и цветов. Предположим (хотя дальше мы увидим, что есть основания уточнять этот тезис), что индуцирование таких же процессов в моем мозге приводит к появлению у меня образа красного шара. Но можно ли сказать, что я воображаю тот самый шар?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Вадим Гигин - Оклеветанный, но не забытый[очерк о М.Н. Муравьеве-Виленском]](/books/435563/vadim-gigin-oklevetannyy-no-ne-zabytyy-ocherk-o-m-n-muraveve-vilenskom.webp)


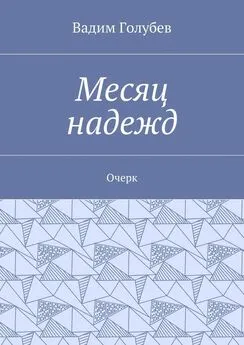
![Борис Кудрявцев - Первоначала вещей [Очерк о строении вещества]](/books/1065461/boris-kudryavcev-pervonachala-vechej-ocherk-o-stroeni.webp)