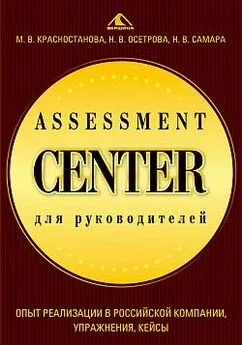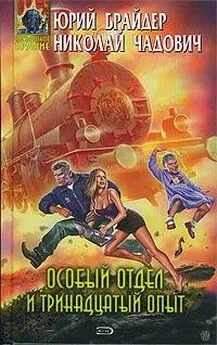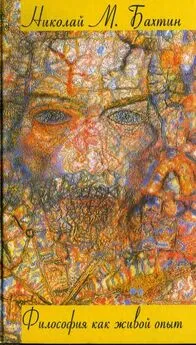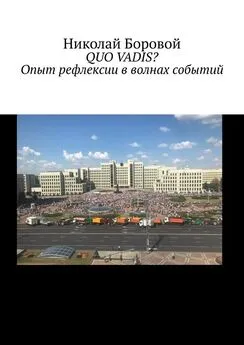Николай Орбел - Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии
- Название:Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Культурная Революция
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Орбел - Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии краткое содержание
Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Жестокость и насилие, которые прописывал тоталитарный режим народу (в немецком случае – против «врагов Германии», в советском – против «врагов народа»), давали такой мощный эффект разряжения ресентимента, что огромные множества людей оказывались способны без большого усилия «претерпевать» насилие над собой: войны, репрессии, лишения стали «нормальной» формой жизни и переживались как героизм. Именно этим эффектом освобождения можно объяснить тот важнейший факт, что даже огромное большинство тех, кто подвергся насилию, кто прошел через ГУЛАГ, оправдывали это насилие, оставаясь до конца верными своим тоталитарным вождям.
Привлекательность эпохи тоталитаризма для масс состоит в том, что благодаря действиям, которые они совершали (энтузиастическое строительство «новой жизни», беспримерные военные подвиги, бесстрашие перед жестокостью, требующие максимальной храбрости, и т.д.), резко повышалась самооценка прежде угнетенных людей. Отныне они чувствовали себя не «убогими и сирыми», а титаническими героями, проживающими жизнь по полной мере. Их борьба становилась пространством ликования от сознания собственного могущества, «macht». Это освобождающее действие жестокости и насилия переживалось как эстетический эффект особой, необычной красоты, и порождало ощущение, по ницшеанской терминологии, «сверхчеловечности».
Восстание рабов неизбежно протекало в форме самовосхваления и самопрославления («Да здравствует великий советский народ!», «Немцы – высшая раса»). Это – необходимый элемент снятия ресентимента, депрессивного состояния, порожденного собственной униженностью и умаленностью. В фашизме это самовосхваление выражалось в коллективном самоутверждении с помощью расовых терминов (наиболее близких природному началу). В советском же самовосхвалении самоидентификационное повышение ранга осуществлялось в чисто классовых терминах. «Мы – не рабы! Рабы – не мы!». Достаточно непредвзято посмотреть на лица немцев, приветствующих Гитлера в фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли», или советских людей в фильмах сталинской эпохи, чтобы убедиться: эти люди были неподдельно счастливы оттого, что благодаря национал-социализму и большевизму смогли «разогнуться», выйти из депрессивного состояния. Их самооценка резким образом возросла. Слова «Интернационала» – «Кто был ничем, тот станет всем» – отнюдь не были для них пустым звуком. Это намного позже массы отвернулись от «реального социализма», потерявшего свой героический драйв и погрязшего в лицемерии. (III Рейх спас от возможной бюрократизации массового подъема собственный крах в 1945 г.). Но вначале массы увидели в тоталитарных режимах гарантию своих кровных интересов и готовы были их защищать ценой жизни. И надо прямо признать, что эти режимы были не просто массовыми, но и подлинно народными, они явились результатом прямого захвата власти наиболее отверженными и угнетенными слоями народа.
Петер Слотердайк в речи, посвященной 100-летию смерти Ницше, отмечает: «… первобытное ликование» масс было результатом их выхода из исторического гетто на сцену, на которой развернулись грандиозные ритуалы собственного самовосхваления». Вся прежняя культура была для масс структурой самоуничижения, самопринижения и смирения. Эта культура была порождена комбинацией ресентимента с потребностью в его психологическом смягчении. И именно раскрепощение языка от ресентимента давало лидерам тоталитарных движений, первыми транслировавшим массам речевое освобождение, такую беспредельную поддержку народа, которую в принципе не могла создать никакая пропагандистская машина.
Совершенно закономерно, что вся жгучая ненависть «восставших рабов» обрушилась как раз на тысячелетние системы смягчения ресентимента и придания ему хронического характера – на религию, мораль и метафизику. И именно по этим параметрам идеологи фашизма распознали в Ницше своего предтечу. Они почувствовали, что этот мыслитель-динамит – взорвал тысячелетние запреты, и, конечно, этим не могли не воспользоваться самые униженные классы и их вожди. Они востребовали и узурпировали его высокий пафос сверхчеловеческого усилия, нацеленного на радикальное изменение жизни здесь и сейчас. Они увидели в нем законодателя новых лучезарных идеалов вместо изъеденных нигилизмом идолов.
В нем они уловили призыв к штурму пасмурного, моросящего дождем неба, за которым сверкает яркое солнце. В нем они почувствовали экстатическое утверждение героического мифа. Именно этот ницшеанский шквал бури и натиска питал тоталитарные революции XX в. Муссолини и Гитлер, действуя по его заветам, словно вернули в старую, обрюзгшую, пошлую и обывательскую Европу могучий воинственный дух, разбудили мужские, рыцарские инстинкты, наполнили ее города громогласным боевым кличем, зовущим к битвам и доблести. В практике фашизма зримо воплощалась ницшеанская критика современной ему «наивульгарнейшей эпохи» с ее обывательскими ценностями и единственной допустимой тягой – тягой к наживе и наслаждениям.
Не только широкие массы, но и самые великие умы и справа и слева услышали в этом кличе глубинный зов бытия, казалось, устремившегося к своему освобождению.
Я не могу согласиться ни с Ясперсом (утверждавшим, что Ницше лишь «снабдил фразеологическим материалом, который использовали национал-социалисты в своих бесчеловечных целях» [11] K. Jaspers. Nietzsche. Chicago. 1966, p. XIII–XIV.
), ни с Г. Маркузе (считавшим, что они «заимствуют у Ницше только словарь и пафос» [12] H.Marcuse. Culture et Societe. P. 1980, p. 63.
): первый из демократических побуждений искренне пытался снять с Ницше лавры идейного вдохновителя нацизма, цель второго – спасти Ницше в интересах леворадикального проекта. Я полагаю, что в «Воле к власти» обрела язык воля к власти «восставших рабов», обрели язык их нестерпимое отчаяние и страстные чаяния. Эта книга – пусть и в завуалированной форме – давала массам программу восстания против социального и национального гнета и психической задавленности. Она настолько ярко и убедительно схватила суть национал-социалистической революции, что ее приняли за манифест национал-социализма, который явственно казался ницшеанским экспериментом.
Ощущению родства ницшеанства и фашизма способствовал и тот поразительный факт, насколько точно Ницше сумел почти за 50 лет до прихода Гитлера к власти предвидеть и описающую практику фашизма. От создания касты бесстрашных воинов (воплотившихся в дивизиях «Ваффен-СС»), умерщвления душевнобольных и евгенических практик до свертывания всякой демократии и форсировании воли к мировой власти – все эти ницшеанские прогнозы и рецепты нацисты выполняли с усердием верных учеников и последователей. Нельзя не согласиться с Альбером Камю: «Не было ли в его трудах чего-то такого, что могло бы быть использовано как призыв к окончательному убийству?.. Не могли ли убийцы найти в учении Ницше повод для своих действий? Приходится ответить – да.» [13] А. Камю. Бунтующий человек. М. 1990. с. 177.
Доживи сумасшедший Ницше до этой «очищающей» прополки человечества, он сам бы наверняка стал первой жертвой нацизма. Но от «Воли к власти» веет такой бесстрашной жестокостью, что можно утверждать: даже знай Ницше о своем ужасающем уделе, он не отрекся бы от своих жутких призывов: этот человек настолько был «возмущен» собственными комплексами и слабостью, настолько ненавидел свой ресентимент, настолько тяготился собой как «биологической неудачей», что вся эта вакханалия жестокости, брызжущая со страниц «Воли к власти» (да и других работ), направленна и против него самого. Пафос этой брутальности по отношению к другим проистекает из жестокости к себе: лучше погибнуть, чем жить убогим.
Интервал:
Закладка: