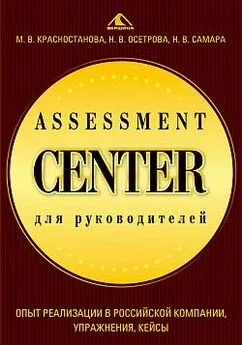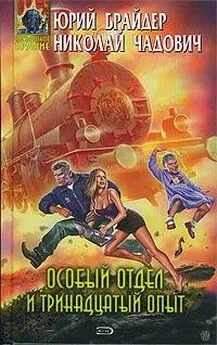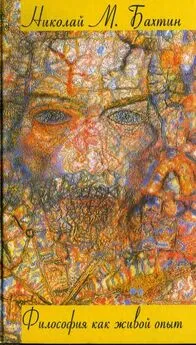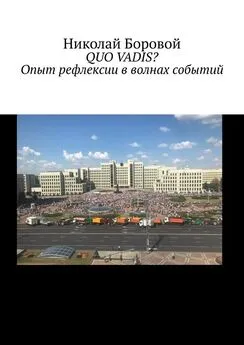Николай Орбел - Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии
- Название:Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Культурная Революция
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Орбел - Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии краткое содержание
Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ницше постоянно выламывает принцип воли к власти из интерпретационной парадигмы нашей логоцентрированной культуры. Он пытается использовать как раз волю к власти для слома самой машины интерпретации, лежащей в основе метафизического мышления. Он развертывает наступление против этой машины по всем правилам военного искусства: «… сущность всякого интерпретирования» – это «насилие, подтасовка, сокращение, пропуск, набивание чучел, измышлений, подделок».4 Ницше на разные лады показывает, как, используя язык – самый тонкий инструмент власти, – интерпретаторы выстраивают эффективные цепочки отношений господства-подчинения: «В действительности интерпретация сама есть лишь средство достигнуть господства над чем-нибудь. (Органический процесс постоянно предполагает интерпретирование» [118] Воля, 643.
Но по мере того, как Нише уводил волю к власти от метафизического окостенения, он с нарастающей тревогой обнаруживает, что он не может ни остановить, ни закончить книгу. Напрасно он искал для этого последнее слово, последнюю мысль. Проблема этой нескончаемой книги (и в целом ницшеанского Мегатекста) как раз и состоит в том, что не существует так называемого последнего слова, которое окончательно закрывало бы текст. Слова требовали все новых слов, лишь нагнетая ощущение незаконченности. Ведь тот, кто мыслит афоризмами, никогда не сумеет поставить точку: последним афоризм может сделать лишь остановка мысли. Ницше все больше понимал, что оставаясь в поле Слова, логоса, невозможно остановить бешенную, но нескончаемую динамику «Воли к власти». Требовался разрыв этого поля.
Эта нескончаемость мысли о воли к власти в его последние месяцы приобрела характер наваждения: чем больше он продуцировал текста, тем больше он ощущал, что его мысль упирается в невыразимое, тщетно пытаясь выразить себя выдохшимися словами… Слотердайк так описывает его состояние: «Тип говорения, который опробует Ницше, извергается из говорящего настолько стремительно, точно, сухо и фатально, что в какой-то момент начинает казаться, что различия между жизнью и речью больше не существует. В точке наивысшей оральной интенсивности говоримое изводит себя в говорении; все представления сгорают в акте выговаривания. Больше никакой семантики – только жестика и мимика. Никаких идей – только фигуры энергии. Никакого высшего смысла – только земное возбуждение. Никакого логоса – только оральность. Ничего сакрального – только стук сердца. Никакого духа – только дыхание. Никакого Бога – только движение губ.
Удивительно ли, что эта речь по сей день ищет того, кто ее понимает. Эта речь постметафизического человека или, может быть, просто речь ребенка – возвращение радостной оральности на вершине культуры» [119] Петер Слотердайк. Мыслитель на сцене. Материализм Ницше. В кн.: Ф. Ницше. Рождение трагедии из духа музыки. М. 2001, с. 660-661.
Язык Ницше предельно трансформируется. Манера его письма, по меткому замечанию Колли, становится глубоко эзотеричной, зашифрованной, словно предназначенной для посвященных. Фрагменты, несмотря на свою прозрачную ясность, представляют собой какие-то тайные знаки сокровенного знания, которые мы принуждены отгадывать.
Эзотеричность своей манеры письма сам Ницше объясняет как способ защиты: «Принято защищаться против низших созданий, которые стремятся нас эксплуатировать. Так же и я защищаюсь против современного государства против культуры и т.д.». [120] F. Nietzsche. 1883 XIY, I часть, § 118.
ицше специально кодирует свое творчество как энигму, как некий кроссворд. Он нигде напрямую не раскрывает логически содержание таких понятий, как воля к власти, вечное возвращение, сверхчеловек. По сути, эти синтетические комплексы – некая смесь между художественным образом, метафорой, мифологемой и научным концептом. Поэтому «всюду, где речь идет непосредственно об учении, о нем говорится пока в поэтической форме, в сравнениях: смысл и истина выражаются образно, то есть через символику чувственного».3 Ницше поначалу полагал, что это та часть его философии, которая еще не полностью сформулирована. Однако по мере того как он продвигался в работе над «Волей к власти», им все больше осознается, что эта часть его философии в принципе и не могла быть сформулирована в рамках метафизической парадигмы.
Именно в «Воле к власти» эта «неформулируемость» подошла к самому порогу выразимости. Ваттимо отмечает, что многие места у Ницше являются загадочными даже для самого автора, поскольку «профетическая форма целого ряда его текстов не просто – стилистический или риторический прием, но связана с «немыслимостью» их содержания».4 Но что означает эта «немыслимость»? Это значит, что Ницше уже не может (или не хочет) мыслить по-старому. То, что ему открылось, невозможно описать логическо-диалектическим языком.
В противовес старому языку, соответствующему метафизике, Ницше пытается пробиться к некоему, по определению Фуко, «структурально эзотерическому языку. То есть он не сообщает, скрывая его, какой-то запредельный смысл; он сразу же уходит в сущностную даль речи. Даль, которая опустошает его изнутри и, возможно, до бесконечности. Тогда какая разница, что говорится на данном языке, какие смыслы в нем открываются? Именно такое темное и центральное освобождение слова, его бесконтрольное бегство к беспросветному источнику не может быть допущено ни одной культурой в ближайшее время. Не по смыслу, не по своей вербальной материи такое слово будет преступным, трансгрессивным – сама игра его будет трансгрессией.»1
Это не просто проблема неадекватности старого языка открывшейся реальности (всякий крупный мыслитель решает эту проблему изобретением своего нового языка). Дело в том, что Ницше хочет вырваться за пределы языка как такового. Он хочет прорваться к неязыковому мышлению. «Слова нам загораживают дорогу»,2 – вот та проблема, над которой бьется поздний Ницше. Все его творчество эпохи «Воли к власти» – «на самой грани передаваемого словами».3 В ней почти физически ощущается тягостная маета языком, который заставляет всех мыслить стандартно и несвободно. «Мы перестаем мыслить, как только отказываемся подчинять себя при этом принудительным формам языка, в лучшем случае мы можем лишь усомниться, имеем ли мы здесь границу, которую мы не можем перейти!.. Разумное мышление есть интерпретирование по схеме, от которой мы не можем освободиться».4 Язык выступает как естественная, богом данная, непобедимая сила. Через язык общество контролирует человека, Ницше воспринимает язык как тоталитарную диктатуру, жестоко господствующую над нами и нашим духом. Освободиться от языка и есть высшая свобода. В конце концов, радикальная переоценка всех ценностей, реализация Вечного возвращения, становление Сверхчеловека возможны лишь, если выйти за пределы языка – этой беспощадной машины, перемалывающей мир и человека.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: