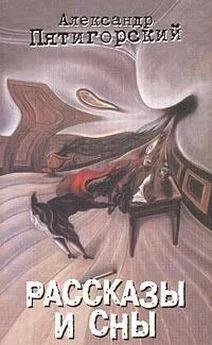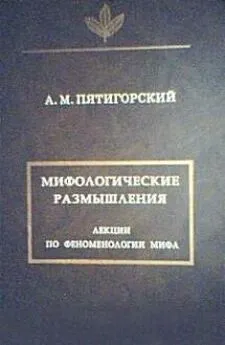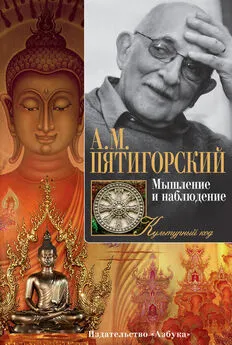Александр Пятигорский - Мышление и наблюдение
- Название:Мышление и наблюдение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Liepnieks & Ritups
- Год:2002
- Город:Рига
- ISBN:9984-9609-0-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Пятигорский - Мышление и наблюдение краткое содержание
Мышление и наблюдение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Третий случай, когда ответом будет «нет», особенно для нас интересен, ибо в нем отвечающий будет исходить из постулата о каком-то «бытии/не-бытии» («мышлении/немышлении»?), никак не пересекающемся ни с каким другим бытием или мышлением. Разумеется, здесь само «нет», как и во втором случае, — чисто номинально, но во втором случае буддийский анти-онтологический постулат будет иметь силу только в отношении мыслимого, а в третьем случае не-мыслимое будет постулироваться абсолютно позитивно. Мне представляется, что в истории философии, да и в «истории» известного нам мышления вообще (если о последнем имеет смысл говорить исторически, что весьма сомнительно), это был первый случай, когда «мыслимое» и «не-мыслимое» постулировались как два несвязанных друг с другом мира. Позиция трансцендентального умопостижения у может быть представлена как своего рода «йогический анализ» позиции рефлексии. В обеих позициях (если можно говорить о позиции рефлексии как об одной позиции) объекты мышления мыслятся как уже мыслимые, включая сюда и само мыслящее мышление. В обеих позициях объективация мышления превращает мышление либо в «идею» мышления, либо в «вещь» (то есть в объект йогического созерцания), тем самым лишая мышление его натурных (психологических) характеристик. Однако между ними существует и одно важное различие. В трансцендентальном умопостижении буддийской йоги йогическое мышление — одно, то есть здесь совершенно не важно, какое оно, чье и о чем.
Как объект йогическое мышление деперсонализировано и деантропологизировано и не приписывается ни «я», ни «человеку». «Человек» и «я» в буддийской, как и в обсервационной философии — это разные случаи мышления. Но само мышление — не случай.
3. Лекция вторая
Содержание лекции
Двусмысленность обсервационной философии. — Переход от мышления к сознанию. — Время в отношении сознания и мышления. — Сознание как пространственная позиция. — Краткое рассуждение о сознании другого и о «мыслящем». — Проблема объекта наблюдения. — Постулат ограниченного антропизма. — Отказ от антропоцентризма. — Анализ позиций внешнего наблюдателя. — Внешний наблюдатель как функция от уровня наблюдения.
Дамы и Господа!
Предупреждаю ваш вопрос: почему здесь так много буддийской философии и так ли уж необходимо на нее ссылаться в рассуждениях о мышлении в обсервационной философии? Ответ очень простой. Я обращаюсь к буддийским текстам о мышлении не как к предвосхищению того, о чем здесь идет речь, даже не в порядке историко-философской ретроспективы и уж совсем не как наследник, последователь или продолжатель. Я просто вижу буддийское мышление о мышлении как то, что есть, всегда есть, когда бы мы ни оказались философствующими о мышлении. Разумеется, мы можем и не видеть или не захотеть видеть то, что есть, но тогда наше видение останется неполным. Время здесь ни при чем, тем более — история. Все буддийские философы мышления тоже видели то, что есть, считая, между прочим, что все (то есть мышление обо всем, то есть мышление) всегда уже есть. Нет, то, что я сейчас говорю, никак не следование им, это, в лучшем случае — подражание.
Самая большая трудность при изложении обсервационной философии — это двусмысленность ее предмета, двусмысленность в буквальном смысле этого слова. Во- первых, это двусмысленность в формулировании предмета. Говоря, что обсервационная философия наблюдает все (то есть все объекты, которые она хочет и может наблюдать) как мышление, мы тем самым приписываем мышлению статус априорно вводимой категории, статус, который оно не может иметь по определению, как вводимое вторично через рефлексию, как эпифеномен рефлексии. Во-вторых, уже по содержанию, а не по условиям введения — мышление предполагает две совершенно различные вещи (точнее, по крайней мере две): (1) мышление как то, что засекается рефлексией, или как «точка», где оно засекается рефлексией, в каковом случае не имеет никакого значения объект (содержание) данного мышления; (2) мышление, установленное в наблюдении объекта как мышления. Так появляется неопределенность. Однако проблема еще и в том, что сама рефлексия как мышление о мышлении, — пока она не объективирована как факт другого мышления, — остается «моим» мышлением во всей полноте мыслимой субъективности понятия «мое». [В этой связи напомню, что «объективация» в буддийской йоге обозначает такое состояние ума, в котором мыслящий не только мыслит о себе как о другом объекте, но мыслит о себе как другой, находящийся в том же состоянии ума, о нем бы мыслил.] Но подождем, ведь пока мое мышление — еще не мышление мыслящего, игра — еще не игрок, книга — еще не «читающий книгу». Тут начинается переход к тому, что мы условно называем «сознание». Простейший случай перехода от мышления к сознанию — это чисто рефлексивное рассмотрение объектов мышления как конкретных содержаний (в форме «идей»), которые отличаются от мыслящего о них мышления тем, что они всегда уже есть к моменту, когда мышление о них уже мыслит.
Если мышление рефлексируется как дискретное (в смысле «мышление — не-мышление — мышление» и так далее), его объекты мыслятся как уже всегда находящиеся там, где мышление рефлексируется (в смысле «одно содержание» — «другое содержание» и так далее). Иначе говоря, если акты мышления различаются по их месту в условной временной последовательности думания о них, то объектные содержания мышления отличаются друг от друга по их месту в пространстве содержания, то есть в сознании.
Употреблять слово «сознание» в любом философском контексте следует крайне осторожно. Поэтому я предупреждаю, что здесь сознание будет фигурировать опять же в двух смыслах, а именно: сознание в операциональном смысле, то есть как то содержание или те объекты мышления, которые мы договорились в наблюдении называть «сознание», и сознание в не-операциональном смысле, то есть как философское понятие. Тогда сознание как философское понятие будет соотноситься со сознанием как понятием обыденного языка, где сознание — это просто «то, что осознает», примерно так же, как в лингвистике язык фигурирует в отношении языка как «того, на чем говорят». Это не более чем поверхностная аналогия, которая только подчеркивает условность употребления нами слова «сознание».
Сознание в обсервационной философии не выводится из мышления и не сводится к нему. «Сознание чего-то» — совсем не «мышление о чем-то». Мышление в отношении сознания
это интенциональный акт, включающий в себя конкретные объекты как «свое» данное содержание. Сознание же здесь — не-акт в своей закрепленной содержательности. Как содержание, сознание может быть выявленным или не-выявленным, потенциальным или актуализированным, но эти характеристики сознания — так же, как конкретные условия его актуализации, которые мы называем состояния сознания, или приписывание сознания различным «субъектам», — все они фигурируют как дополнительные в отношении сознания как содержания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: