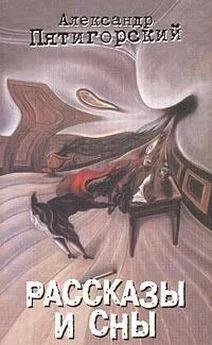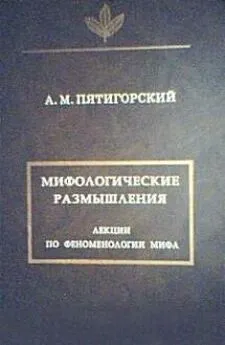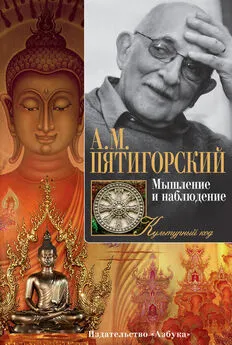Александр Пятигорский - Мышление и наблюдение
- Название:Мышление и наблюдение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Liepnieks & Ritups
- Год:2002
- Город:Рига
- ISBN:9984-9609-0-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Пятигорский - Мышление и наблюдение краткое содержание
Мышление и наблюдение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разумеется, в силу того же буддийского постулата мыслящий не может постулироваться ни как существующий отдельно от мышления и мыслимого, ни, менее всего, как то, бытие чего выводится из мышления (как у банально понимаемого Декарта). Именно в смысле этого постулата — но ни в коем случае не в порядке вывода из него! — мы можем рассматривать другой (фактически третий) постулат буддийской философии мышления. Это постулат об отдельных, индивидуальных континуумах мысли (citta-samtana). Они безначальны в безначальной вселенной и каждый из них в каждый момент продолжается в том или ином живом существе (sattva). Отождествление такого существа (а не континуума мысли, конечно) с «мыслящим» — крайне проблематично (хотя именно это и делает Гуссерль во введении к «Феноменологии идей»), хотя бы потому, что, — как ясно видно из β предыдущей лекции и (1) и (2) этой, — сама мысль о «мыслящем» (или способность мыслить о себе или другом как о мыслящих) совсем не обязательно (и не всегда) актуализируется в данном живом существе. Но если мыслящий может постигаться, прямо или косвенно, достоверно или недостоверно, обыкновенным образом или йогически, то континуум мышления не дан ни в каком восприятии; он вводится как чисто трансцендентальная категория и мыслится чисто трансцендентально, то есть с позиции у. Последнее нуждается в разъяснении.
В буддийской философии мышления каждый момент, акт мышления (взятый в его триаспектности мышления, мыслимого и мыслящего) возникает в порядке «Взаимообусловленного Совозникновения» (prantyasamutpada). Таким образом, каждая мысль этого континуума — причинна. Но сам этот континуум — не-причинен (как, строго говоря, и «Взаимообусловленное Совозникновение»). Тогда, если я поставлю себя в положение внешнего наблюдателя по отношению к буддийской философии мышления, то для меня станет возможным вопрос: а следует ли из беспричинности континуума мышления беспричинность мышления вообще? Но возможно ли вообще мышление?
Как мы уже знаем, в обсервационной философии мышление возможно только как самый общий случай («мышление вообще») объекта рефлексии. «Вообще» — это просто «самое общее о мышлении», предел того, что возможно в рефлексии. Еще точнее будет сказать, что это даже не о самом мышлении, а, скорее, о каких-то свойствах рефлексии, которые в порядке общего предположения могут быть перенесены на рефлексируемое мышление.
Как уже было сказано в первой лекции, с позиции обсервационной философии «сильная» гипотеза о мышлении как о реально существующем объекте — невозможна. Я думаю, что гениальность буддийского подхода к мышлению проявляется прежде всего в том, что само понятие существования (или бытия) либо вообще не фигурирует в философских текстах в связи с мышлением, либо употребляется в суждениях о мышлении как связка (как, например, в случае, когда о мысли говорится, что она «бывает трех родов: дурная, благая и нейтральная», где «бывает» вовсе не означает, что мысли приписывается «бытие»). Эта не-бытийность и не-сущностность мысли в буддийской философии имела своим прямым следствием (доктринально, а не исторически) то, что и объекты мышления мыслились как не-сущие. В то же время эта не-бытийность мысли (как и ее объектов) выражалась и в том, что само понятие «быть» как предикат уступило место понятию «возникать» (тогда только что приведенный случай будет читаться: «мысль возникает как дурная, благая или нейтральная»).
Буддийская идея о том, что мысль обладает особым «бытием—не-бытием», могла бы иметь огромное значение в истории философской и научной мысли, если бы не глубоко укоренившаяся идея о том, что мышление и объекты мира суть совершенно разные вещи в отношении бытия — интуитивный постулат изначальной двойственности мира, тремя выводами из которого оказались объективный идеализм, объективный материализм и субъективный идеализм. Имплицированная в буддийском постулате идея о том, что «мысль возникает из мысли», нейтрализует как идею о первичности вещей в отношении мысли о них, так и о первичности мысли в отношении к мыслимому миру. Более того, эта идея снимает и положение о нереальности объективного мира, поскольку радикально переосмысливает само понятие бытия. Но тогда о чем же мы мыслим, когда мыслим о нашем мышлении в отношении к предикату существования этого мышления?
В ответе на этот вопрос выйти на прямую — совершенно невозможно. И буддийские учителя это знали как, может быть, никто другой в истории философии. Они утверждали, что причина всякой мысли (включая мыслимое и мыслящего) — только в другой мысли, а причину «мысли (или мышления) вообще» нечего искать, так как ее нет. Это и побудило их к переосмыслению таких понятий, как «быть», «бытие», «сущность» и так далее, в качестве предикатов мышления. Такое переосмысление можно было бы кратко сформулировать так: не столь важно утверждение о том, что есть и что не есть, сколь отрицание абсолютного смысла в «есть» и «не-есть». Так, например, если взять буддийский постулат о том, что нет такой вещи как «я» (atman), но что все (то есть все дхармы) есть «не-я» (anatman), то в этом постулате главное то, что «есть» и «не-есть» являются условными обозначениями того, как мыслится «я» и «не-я». То есть, «есть» и «не-есть» здесь — разные «мыслится как», то есть разные модусы наблюдения мышления.
С позиции обсервационной философии самое интересное в буддийской философии мышления — это ее интуиция о двух видах предикатов — «быть» и «возникать», первый из которых («бытие») отрицается в отношении всего, что не есть мышление, а второй («возникновение как...») утверждается в отношении мысли. Таким образом, вместо «я — нет» и «мысль — это то, что возникает как ...» можно было бы сказать: «то, что не-есть — это я», и «то, что возникает — это мысль». Важность этого подхода не только в том, что таким образом отменяется онтологическое постулирование, но и в том, что здесь релятивизируется сама проблема онтологии в отношении мышления.
Дамы и Господа! Продлевая мои экскурсы в буддийскую философию мышления, я не стремлюсь к философскому обоснованию исходных положений обсервационной философии, которая в своих предпосылках несравнимо уже и тривиальнее первой. Повторяю, для меня буддийская философия — это не исторический прецедент, но еще один случай философствования о мышлении. Здесь буддийские тексты с употребляемыми в них понятиями и терминами являются объектами моего наблюдения; иными словами, являются тем, что наблюдается как мышление, но никак не «текстами мышления», поскольку они, как и любые другие тексты, могут быть одновременно текстами чего угодно. Если мы примем во внимание то обстоятельство, что, кроме его чисто текстовой интенциональности, всякому тексту может, в принципе, быть приписана любая другая интенциональность. Это необходимо иметь в виду при любых конкретизациях объекта наблюдаемого мышления. Я думаю, что исключительная трудность перехода от мышления к сознанию, о котором говорилось выше, точнее, исключительная трудность наблюдения этого перехода, объясняется прежде всего тем, что сознание неизменно оказывается каким-то особым объектом для мыслящего о нем мышления, объектом, скажем так, «искусственно сконструированным».; «специально придуманным для объяснения чего-то другого». В буддийском философствовании сознание оказалось несводимым ни к «мыслящему», ни к «континууму мышления». [Напомню, что «мыслящий» всегда фигурирует как аспект мышления, а «континуум мышления» остается дополнительно введенным, чтобы как бы заместить «я» первого.]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: