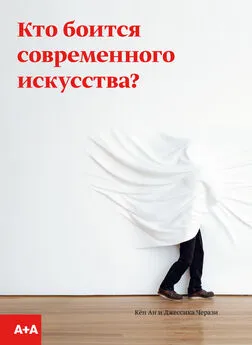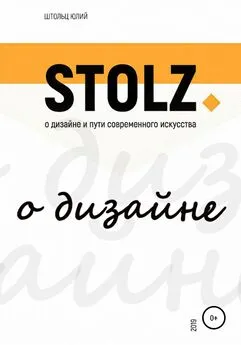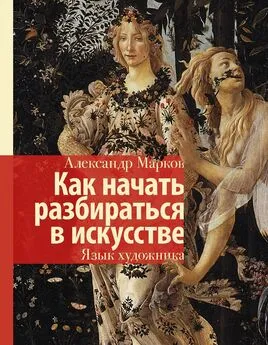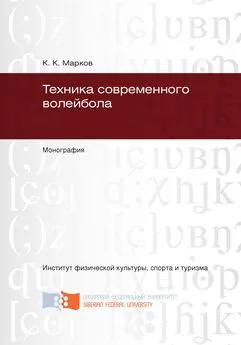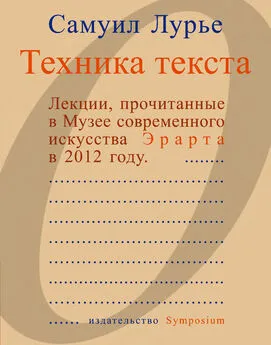Александр Марков - Теории современного искусства
- Название:Теории современного искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - Теории современного искусства краткое содержание
Теории современного искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Позиции аналитической теории искусства легче понять, разобрав сначала позиции межвоенной Львовско- варшавской школы философской логики: группы польских ученых, поставивших под вопрос привычные представления о делении слов и вещей на значимые группы, так что натуралистически понятое наделение значением, обладание значением или смена значения становилось основанием классификации и дальнейших ходов мысли. Конечно, ни один логик не допускал и до этого ошибок в духе «нож — это, чем режут» или «нож — это, когда им режут», понимая, что обход речью ситуации, привязка речи к ситуации, не имеет ничего общего с научным осмыслением ситуации. Но, например, логик мог считать, что острый нож — уточнение понятия ножа вообще, а тупой нож — уточнение понятия данного отдельного ножа, вопреки и данным языка, где острый и тупой противопоставлены на одном уровне, как характеристики на шкале от тупости до остроты, и данным нашего опыта, когда мы можем столкнуться с тем, что, например, все бытовые ножи, которые мы привыкли называть ножами, слишком тупы для выполнения тонких научных или меди цинских задач. Поэтому лидер этой школы К. Твардовский предлагал делить прилагательные не на уточняющие значение существительного (острый нож) и меняющие его значение (игрушечный нож, то есть не нож вовсе), а на прилагательные с простой функцией (определяющие, в каком смысле понимать этот предмет как «нож» — тот же игрушечный нож в значении нож-игрушка) и со сложной функцией (тот же игрушечный нож в значении нож для игры в ножички, когда пояснено и как этот нож работает, и почему его нельзя использовать как столовый или хирургический нож).
Внутри этой школы А. Тарский создал логическую семантику, которую можно объяснить примерно так. Выражение «некоторые ножи — острые» будет вполне истинным в старой логике, на основании истинности выражения «все ножи либо острые, либо тупые». Но дело в том, скажет Тарский, что никакого основания выделения группы острых ножей кроме логического и фактического следования, что этими ножами мы разрежем нужные нам для разрезания предметы, нет. Тарский ссылался на логический позитивизм Р. Карнапа, но менял его содержание. Карнап полагал, что мы говорим об остроте ножей потому, что можем выделить класс острых предметов как таковых; и мы способны говорить об остром ноже потому, что мы можем также сказать о тупом ноже, иначе говоря, о возможности ножа быть не отнесенным ко всему классу острых предметов. Для предметов, не бывающих острыми и тупыми, например, для мячей (не для мечей), такая логика не годится.
Тарский существенно дополнил это рассуждение: дело не только в нашей бытовой привычке переходить от поиска нужного острого предмета к тому, что мы берем в руку нож — бытовая последовательность действий не может быть примером для логика. Всё делается совсем по- другому: мы признаем, что наши высказывания об острых предметах могут стать моделью для высказываний об острых ножах. Например, «этим мы режем» или «это вытянутое и сужающееся». Разумеется, ножи обладают теми свойствами, которыми не обладают, допустим, бритвенные лезвия — скажем, имеют ручку. Но если мы захотим говорить о ручках, мы будем говорить о посуде с ручками. Такая логическая семантика Тарского позволяет давать определения ножу не по функциям или внешнему виду, но как смоделированному определенным классом вещей с некоторыми дополнениями; при этом класс относится к логическому следствию, а дополнения — к фактическому. Из принадлежности ножа к режущим предметам совершенно логично следует, что нож режет, а вот то, скажем, что он лежит в чехле, относится к его фактическому существованию. Как мы видим, в основе такой семантики лежит кантианство, различающее между чистым и практическим разумом.
Другую важную поправку в эмпиризм Рудольфа Карнапа внесла Изидора Домбская. Рассел и Карнап считали, что имена собственные обозначают реальных или вымышленных лиц, поэтому некоторые логические операции с ними невозможны, например, суждение «Все Наполеоны — полководцы», потому что Наполеон (во всяком случае, Наполеон I, и не песец из повести Коваля, а историческое лицо) только один. Понимая, о каком именно лице идет речь, когда мы говорим «Наполеон», мы тем самым отдаем это имя из области логических операций в область опыта. Но постойте, заметила Домбская, Наполеон для нас как раз литературно-исторический персонаж, нуждающийся в ряде определений, что это император Франции, что это признанный великий полководец мировой истории и т. д.
Тогда как человек вообще, которого мы в логике привыкли считать логическим оперантом, примером («Все люди смертны», против чего так восставал толстовский Иван Ильич), на самом деле является большей эмпирической реальностью, чем Наполеон, — даже уже в нашей квартире, сидя в коронавирусной самоизоляции, мы можем встретить хотя бы одного еще человека. Таким образом, скорее человек является эмпирическим фактом, и мы можем определять через опыт любого человека, но и человека вообще, просто принимая это как факт, благодаря которому возможен наш опыт (здесь Домбская явно отсылает к феноменологии Гуссерля), — тогда как для определения Наполеона надо отнести его к классу полководцев и посмотреть, что он непротиворечиво логически выводится из этого класса.
Началом этой польской школы стала еще работа 1907 года Яна Лукасевича «О понятии причины». Лукасевич спорил с Кантом, говорившим, что понятие существования — предикат; например, существующий талер отличается от несуществующего тем, что он существует и не-не- существует, потому что не может талер обладать двумя противоположными признаками одновременно. Но, замечает Лукасевич, эти талеры различаются не только предикативными следствиями, но и собственным содержанием: дело не в том, что на воображаемый талер ничего не купишь, но в том, что его как воображаемый мы храним иначе в своем уме, чем настоящий — в кошельке, он имеет иную длительность существования, он не соотнесен с колебаниями валютных курсов, но соотнесен с нашими капризами.
В результате мы найдем содержательное различие этих талеров, которое никак не связано с действием прямой причинности, но и не является только опытным различием, раз мы все же строго противопоставляем действительное и воображаемое. Поэтому надо пересмотреть как-то понятие причины, иначе в определении причин мы уйдем в бесконечность: причиной сокращения мышц является электрический разряд, причиной электрического разряда является электростанция, причиной электростанции является… — при этом такое знание причин ничего нам не прибавит к нашим знаниям, потому что будет построено по образцу «причиной воображаемого сокращения мышц является воображаемый электрический разряд». Тогда как если мы исходим из того, что причина — это всегда причина существования или вызванная существованием, например, не «вирус — причина моей болезни», а «существование вируса — причина его действия во мне» или «болезнетворность вируса — причина существования во мне болезни», мы станем гораздо последовательнее рассуждать об устройстве предметов и о возможности нашего вмешательства, иначе говоря, хотя бы как-то подготовим сильную программу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
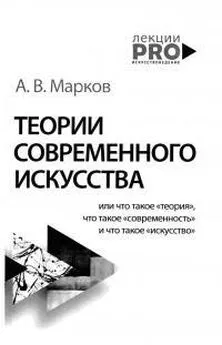

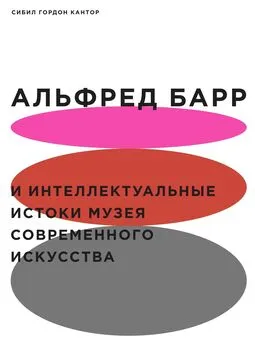
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)