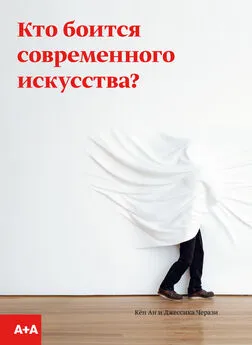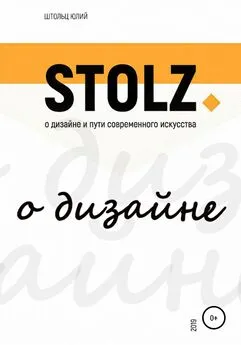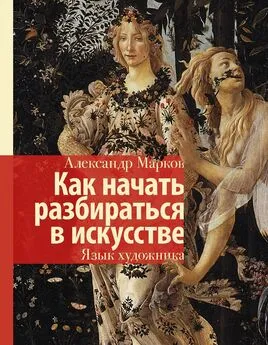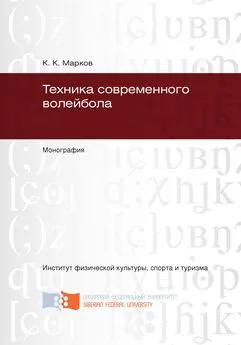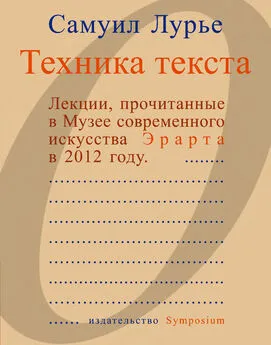Александр Марков - Теории современного искусства
- Название:Теории современного искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - Теории современного искусства краткое содержание
Теории современного искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Есть очень интересная параллель к рассуждениям Такера — эссе В. В. Бибихина «Ужасные вещи» (2001). В этом эссе Бибихин, ссылаясь на опыт А. Ф. Лосева, А. И. Солженицына и дневники Л. Н. Толстого, говорит, что человек может сохранять «философскую» позу перед страхом, но не перед ужасом. Ужас, как говорит Бибихин, накладывает на человека печать, за которой его уже не видно, — ведь рушатся все планы, отменяются привычные режимы общения, хочется броситься на стену от отчаяния. Но ключ к ужасным вещам Бибихин находит в замечании Толстого, что он был «одарен всеми пороками». Воспринять свою порочность как дар — значит понять, что даже пороки тебе не принадлежат, тогда как в страхе человек может продолжать пестовать свои пороки и присваивать себе готовые эмоции и проекты. Значит, наступило уже время не страха, а ужаса, вдруг показавшего, что уже нет ничего твоего, и тем самым стало можно говорить, что мы отброшены к себе и можем начать сначала.
Эссе Бибихина было написано еще до появления спекулятивного реализма, тогда как сейчас некоторые наши авторы вполне опираются на Хармана и Такера, обосновывая, скажем, звуковые практики в современном искусстве. Так, Виталий Аширов, анализируя музыку Диаман- ды Галас, пришел к выводу, что реверберация (сложное эхо, постоянное отражение звука от стен) в реальном концертном зале создает инфраплан звука, тот самый шум, который заглушает обычные шумы звука вроде кашля или гудения ламп, — и тем самым музыка может восприниматься во всей ее чистоте, во всем ее ужасе. Инфраплан является тем самым «нечеловеческим», которое надо обучить человеческому; своего рода информационным вирусом или элементарной единицей жизни, поддерживающей свое существование. Задача музыканта тогда — показать живость и обучаемость этого инфраплана, например, что отдельные акценты на звуках и паузах делают восприятие музыки цельным.
Кстати, у Бибихина есть очень интересная параллель к соображениям Хармана и Такера о Ктулху. Бибихин цитирует из дневников Толстого размышление, что Земля не просто вращается вокруг Солнца под действием сил, а еще как-то приводима в движение Солнцем — и при этом не может подойти к Солнцу ближе, чем надо, потому что это противоречит ее инстинкту, ее органической пред-заданности тем, как Солнце опекает ее и греет. «Земля вращается с другими планетами вокруг Солнца. Т. е. по мере своей плотности относительно сфер Солнце находит свой путь в одной из сфер. Направление ее определено сферой вращения Солнца, непосредственно соприкасающейся с ее сферой и сферами других планет». Бибихин замечает, что тогда Солнце не просто воздействует на Землю, определяя ее место, но заставляет соприкасаться с самой органической жизнью Солнца, — а движение Земли оказывается совершенно органическим, как будто какой-то гигантский осьминог движет эту Землю, как такая переливающаяся субстанция, которая и делает живое живым. Вместе с ужасом некий Ктулху вошел и в мир русской мысли.
Это имеет параллели в других рассуждениях Бибихина о роли ног (а у осьминога только ноги и являются фактическим телом, потому что голова — узел этих ног), например, что бегун чувствует усталость в мышцах, но не чувствует ног, или что пчела, перенося пыльцу, как раз чувствует материальность пыльцы, но не чувствует, что она опыляет и трудится. Иначе говоря, живое начинает ощущать себя живым прежде, чем распределит импульсы по органам, и тогда этот «Ктулху» просто квинтэссенция живого. Здесь интересно, и как в других работах Бибихин разбирает современную поэзию, в которой находит испуг перед этой квинтэссенцией живого, например, в курсе «Новое русское слово», вошедшем в книгу «Грамматика поэзии», он анализирует стихи Дмитрия Александровича Пригова, видя в них особый опыт остановки перед вещами: когда не только смерть оказывается источником трагического переживания, но и сон оказывается слишком сильной метафорой смерти. Тогда шутовские стратегии поэта-концептуалиста оказываются единственным способом пугаться не смерти, а жизни, и тем самым продлить существование поэзии.
Бибихин, конечно, во многом вдохновлялся Хайдеггером. Вы помните, как Хайдеггер рассуждает в «Первоисточнике произведения искусства» (то, что А. В. Михайлов пышно перевел: «Исток художественного творения», так перевел не от хорошей жизни, конечно, нужно было познакомить постсоветскую публику с Хайдеггером, она бы иначе просто его не заметила), чем отличается искусство от не-искусства. Философ опровергает обыденный взгляд, что искусство создается мастером, указывая хотя бы на то обстоятельство, что причинность здесь другая — мы признали человека мастером, потому что уже знакомы с его или ее произведением искусства. Но также и произведение искусства — источник искусства. Перед нами уже не отношение причины и следствия, а присутствие некоторой изобилующей причины, сбивающей нас с толку, захлестывающей нас, требующей вдруг, не находя слов, назвать это искусством.
Далее Хайдеггер иронично рассуждал, что произведения искусства вошли в нашу жизнь как вполне употреби- мые: их можно перевозить по железной дороге, как перевозят уголь, а можно спрятать в запаснике музея, как картошку. Эти слова — вовсе не снижение произведений искусства до вещественности, скорее, испытание, насколько долго может продержаться материальный носитель, когда мы его как бы откладываем в сторону, производим гегелевское «снятие» образа, чтобы посмотреть, насколько надежной будет сама конструкция, в которой произведение искусства позволяет воспринимать себя. Поэтому Хайдеггер говорит, что требуется полный ресурс аллегорико-символического и прочего понимания вещей искусства, чтобы мы получили не только вещь, но и произведение.
Хайдеггер сталкивается с простой проблемой: вещью в философии может оказаться что угодно, олень и микроб, Бог и капля молока, кувшин и цифра «3», снегопад и университет, всё, что мы называем не только «вещами», но и «явлениями природы», «абстракциями» или «системами», — потому что различение вещей и явлений принадлежит нашим практикам, а не навыкам и условностям самих вещей. Можно даже мизогинически назвать женщину «вещью» («штучкой»), но в этой мизогинии, по Хайдеггеру, виноваты не греки, а римляне, которые взяли греческие понятия о подлежащем и сказуемом, не очень поняв их, и стали употреблять к месту и не к месту. В таком случае хватит ли ресурса, хватит ли энергии метафоры, аллегории, символа, чтобы совершить такой скачок от громоздкого мира вещей к произведению?
Хайдеггер говорит, что сама грамматика нас обычно сбивает с толку. «Строй вещи» и «строй фразы» имеют один источник существования, некоторый опыт, например, опыт философского удивления, после которого не хочется растворяться в вещах или просто их использовать, но хочется сказать о них что-то осмысленное. Но устроены эти строи по-разному. Ведь строй фразы может быть в любой момент изменен и оспорен, нам могут возразить, и мы возражаем самим себе, сомневаемся, еще прежде чем произнесем фразу. Тогда как строй вещи все больше склоняет нас к насилию: мы овладеваем вещью, начинаем ею распоряжаться, начинаем перекладывать ответственность с вещи на вещь, например, говорим, что именно эта вещь виновата в качестве причины такой-то ситуации. В конце концов, мы начинаем приписывать вещи какую-то иррациональность, говорить, что вещь сама по себе якобы не может сказать нам чего-либо осмысленного. Но иррационализм для Хайдеггера — это высшая форма насилия, это затыкание рта самой вещи. Из того, что вещи хочется чувствовать себя спокойно, вовсе не следует, что мы должны задавить ее этим покоем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
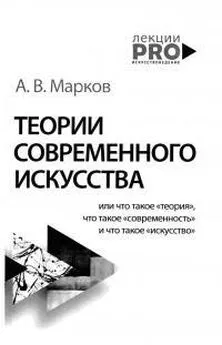

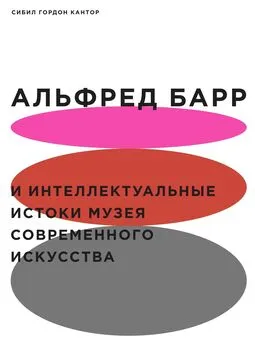
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)