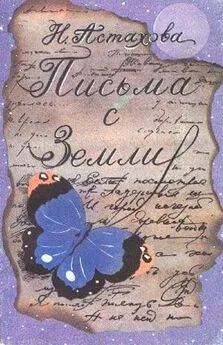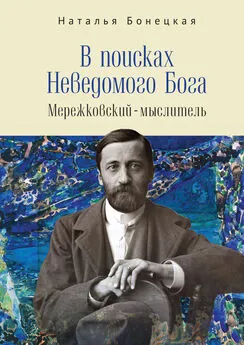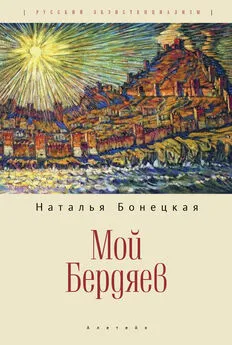Наталья Бонецкая - Письма о русском экзистенциализме
- Название:Письма о русском экзистенциализме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Бонецкая - Письма о русском экзистенциализме краткое содержание
Письма о русском экзистенциализме - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако все герои абсурда у Шестова – это великие люди, жизненно постигшие пути Промысла. Духовные вожди, пассионарии, ставшие светочами для других, избранники Шестова, по его мнению, жили бунтом против мировых основ, – бунтом «метафизическим» в терминах Камю. Но если, согласно Камю, бунт был движущей силой истории, в чем и заключалась его великая ценность, то, в глазах Шестова, бунт великой личности имел значение сугубо внутреннее, индивидуальное: извне приобщиться к опыту такого бунта и постигнуть его смысл в полной мере невозможно. Другого , при этом великого, можно понять только через свой опыт, герменевтически – субъективно и ущербно: думается, Шестов это сознавал, занимаясь всю жизнь подобной герменевтикой. Что для него было абсолютным, так это враждебное противостояние пришедшей к сознанию личности и падшего мира, а также иллюзорность последнего. Метафизический бунт конкретного человека обусловлен его бытийственной ситуацией, и бунт великих лишь демонстрирует это обстоятельство.
Всё же абсурдизм, по мнению Шестова, явление редкое, это свидетельство высшего избранничества. К сознанию трагизма человеческого существования приходили в результате спонтанного, как бы чудесного просветления, чтó заставляет вспомнить о сатори в дзэн – буддизме. Как стремится доказать Шестов, просветление вызывало «перерождение убеждений» у избранника. Таких «абсурдных» людей в мире единицы, им противостоит многоликое чудовище – «всемство», живущее под властью Необходимости, руководствуясь общими для всех истинами разума. – Камю распространил принцип абсурдного существования едва ли не на всё человечество, страшно демократизировал и снизил абсурдизм, попытавшись кроме того создать его типологию. Самый яркий образ «абсурдного человека» в «Эссе об абсурде» – это актер, который «путешествует» по душам своих героев [343]. Допускаю, что Камю заимствовал у Шестова представление о герменевтических «странствованиях по душам» [344]. Но приписывать Шестову актерство было бы ошибочным: Шестов не «терял себя, чтобы найти другого», не стремился «быть ничем», дабы «быть многими», как «актер» Камю (с. 67). Напротив того, он «шестовизировал» – почти уничтожал других и сохранял самого себя. Актерами, на взгляд атеиста Камю, люди делаются, осознав свою смертность, расставшись со всеми надеждами. Если человек утратил свой вечный экзистенциальный центр, порвав связь с Творцом, то тогда его существование овнешняется, сосредотачивается в плоти и выражается «театрально», в голосе и жесте – ведь «в театре царит тело» (с. 68). Лицо человека делается маской, личины – роли меняются, – к этому сводится существование актера. Но именно такова жизнь среднего современного человека. Так актерство, под пером Камю, оказывается общей парадигмой человеческого существования. Протеизм, смена социальных масок, игра – это аналог «несчастного сознания» в воззрении Сартра, заурядной ситуации человека, лишенного жизненного корня. Экзистенциальное лицедейство у Камю – нечто большее, чем пример абсурдизма, это почти что императив. Суть пафоса Камю – отказ от «иллюзий», т. е. от Бога и бессмертия. Антиметафизик, Камю заявляет: «Не имея вечности, я заключаю союз со временем» (с. 71), предпочитая «вечности» «комедию» и «теряя право на спасение» (с. 69). Но подобная жизнь – не что иное, как «распыление самого себя» в ролях, масках, вымышленных судьбах и ситуациях, т. е. экзистенциальное актерство. Итак, последнее вытекает из атеизма с неотвратимостью и захватывает современный мир, который превращается в театральную сцену.
Абсурд, в воззрении Шестова, если и не необходимый, то весьма желательный момент в становлении великих личностей. Через абсурд у Шестова проходят Ницше и Достоевский, Лютер и Толстой, Паскаль и Кьеркегор. Благодаря мучительному опыту абсурда у человека открывается второе зрение, которому доступно иное – более истинное измерение мира. Всё наоборот в концепции Камю: абсурдизм восходит к ущербности человеческого разума, не способного проникнуть в реальность. Принципиальная невозможность «истинного познания» (с. 29, 33), – в частности, непознаваемость другого человека и неуловимость собственного «Я» («Я навсегда отчужден от самого себя»: с. 33), – создает вокруг каждого атмосферу абсурда. Героев Шестова абсурд настигал внезапно и поражал подобно молнии; в ХХ веке, констатирует Камю, «чувство абсурдности поджидает нас на каждом углу» (с. 28). Это «неуловимое» чувство сродни «пустоте», – например, «окрашенной недоумением скуке» (с. 30) или сартровской «тошноте» (с. 31). Именно так средний человек ХХ века переживает «чуждость мира», убийственное людское равнодушие к себе, неотвратимость смерти.
Повесть Камю «Посторонний» заостряет эту общую экзистенциальную ситуацию. Рассказ в ней ведется от лица приговоренного к смерти, индивид – совершенно по-шестовски – радикально противопоставлен «всемству» и его законам. Мерсо, мелкий чиновник – француз – не просто «посторонний» в среде алжирских арабов (какой – никакой, а колонизатор), почти случайно убивающий одного из местных жителей: он – метафизический «посторонний», отделенный от социума с его нормами некоей своей анормальностью – сомнамбуличностью безвольного существования. Дикая африканская жара, – это фон действия повести, – лишает человека воли к жизни и желания мыслить хотя бы на бытовом уровне. Повседневное существование Мерсо почти идиотическое, машинальное. Образ Мерсо иллюстрирует следующие рассуждения Камю в «Эссе об абсурде»: легко жить в привычном русле повседневности – «подъем, трамвай, четыре часа в конторе…», – но «бывает, что привычные декорации рушатся», «рвется цепь каждодневных действий и сердце впустую ищет утерянное звено» (с. 29). У Шестова жизненный кризис ведет великих к «перерождению убеждений»: Ницше восстает на христианство, Толстой, напротив, бросается к религии и т. д. Когда умирает мать Мерсо, – «рвется цепь» его будничной жизни, – он не перерождается: убеждений у него нет и живет он на уровне инстинктов (секс, еда и пр.). Однако и с ним происходит нечто очень шестовское. Утратив связь с человеческой общностью – через мать он был включен в свой род и нацию, – беспочвенный изолированный индивид Мерсо оказывается во враждебном противостоянии социуму. Его равнодушное поведение у гроба матери было расценено как безнравственность. Однако так выявилось нечто неотъемлемое от его личности – то, что в аскетике называется «окамененным бесчувствием», как бы постоянная завороженность неведомой силой – «бесом полуденным» африканского солнца. Он не аморален, а вне – морален: убив араба, он не испытывает и малейших угрызений совести. Ведь Мерсо – человек, утративший связь с ее источником – собственным «я», телесная оболочка, заключающая в себе животную душу. Но именно в этом уникальность и безвинность Мерсо в изображении Камю. Шестов в подобных случаях всегда брал сторону индивида: вспомним его трактовку «Макбета» – шокирующее оправдание «серийного убийцы» с возложением вины на «категорический императив» – общечеловеческую мораль. То, что смысл повестей «Посторонний» и «Падение» определяют мотив суда и образы судей, думается, у Камю именно от Шестова: для этого несостоявшегося адвоката всякая жизненная ситуация «взвешена» на экзистенциальных «весах Иова», заменивших для него весы Фемиды. Мерсо присужден к гильотине присяжными, руководствующимися в первую очередь «категорическим императивом» и лишь затем – государственным законом: им безразличен убитый араб, зато важно, что Мерсо выпил чашку кофе, проведя ночь у тела матери. И как кажется, именно в сознании близкой неизбежной смерти в Мерсо впервые пробуждается личность – из тумана бессознательного всплывает светлая точка. Меня , такого, какой я есть, не принимают во внимание, судебные речи – не обо мне: вот мысль, вспыхнувшая в голове у Мерсо на скамье подсудимых. Ужас Камю перед убийцами Мерсо – нравственными и правовыми нормами, думается, от Шестова. Камю, автор «Постороннего», выступает адвокатом Мерсо подобно Шестову – защитнику целого сонма «злых», «безобразнейших» людей. Преступление Мерсо Камю подает как самозащиту: Мерсо был бы непременно зарезан, не застрели он араба [345]. Мерсо – абсурдный герой, почти аутист, живущий по ту сторону общественных норм. Но он – не великое исключение, а самый скромный человеческий стандарт – алжирская реинкарнация Акакия Акакиевича, Поприщина, Макара Девушкина. Этим подчеркнута универсальность ситуации: я – посторонний в мире других , и этот мир волит меня убить – прежде чем это сделает природа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: