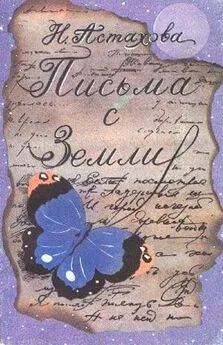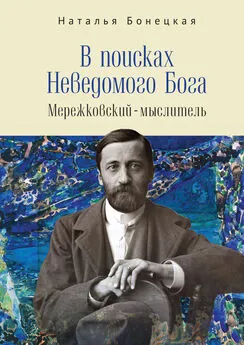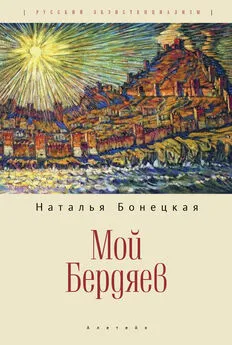Наталья Бонецкая - Письма о русском экзистенциализме
- Название:Письма о русском экзистенциализме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Бонецкая - Письма о русском экзистенциализме краткое содержание
Письма о русском экзистенциализме - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сейчас я вернусь к тому, от чего меня отвлекла участь Сизифа, – к абсурду согласно Камю, как духовному пути. Открывшаяся человеку абсурдность бытия подчиняет его себе как «болезненная страсть» (с. 35). Констатируя это, Камю не сознаёт, что абсурд тем самым разоблачается им как соблазн. Приняв помрачение за просветление, соблазненный мгновенно находит для абсурда оправдание: отказ от метафизических иллюзий свидетельствует о «ясности интеллекта» (с. 45). Ключевое слово здесь однако – Бог : суть абсурда в том, что он «не ведет к Богу»: «Отрицание и есть Бог экзистенциалиста» (с. 46). Здесь у Камю слышится чисто шестовская нота: речь идет для него об «отрицании человеческого разума в виду бытийственного абсурда» (там же). Но именно в данной точке пути Камю и Шестова расходятся в противоположные стороны. Шестов совершает «скачок» (как выражается Камю) в веру, открывает внутри себя перспективу, ведущую к Богу библейских праотцев. Согласно его признанию в книге о Толстом и Ницше, он начинает экзистенциальное искание Бога. Тем самым, так или иначе, он избирает путь жизни . Камю же останавливается на абсурде, чт о для него сопряжено с «отчаянием» (с. 45) перед тьмой неведения, Сизифовым страданием от бессмысленного существования и т. д. Но именно таков выбор Камю: «Жить и мыслить, несмотря на все терзания» (с. 50), – т. е. «жить абсурдом» (с. 51).
И здесь – тонкий всё же момент, я прошу Вашего внимания. Ситуация абсурдного человека отнюдь не сопряжена со смирением, с принятием тайны бытия, которую Высшая сила скрыла от людей. Сизиф, в глазах Камю – никак не предтеча Христа, и его камень – не прообраз Креста. Речь для Камю идет о постоянном внутреннем бунте личности, – ему не близка даже установка на amor fati несомненного бунтаря Ницше. Бунт против основ бытия «есть уверенность в подавляющей силе судьбы, но без смирения», и он «лишен надежды» (с. 53). Абсурдный человек знает, что «его ждет ад», что он потеряет вечность – но «невелика потеря»! Камю заносит в его экзальтации, когда он превозносит «ад настоящего», кощунствует, вспоминая символы Евхаристии («вино абсурда» и «хлеб безразличия» «питают» абсурдиста), в духе его любимого Ивана Карамазова провозглашает, что абсурдной личности «всё позволено» и т. д. (с. 52 – 53). Он настаивает на аскезе абсурдного пути: чтобы не сбиться с него, нельзя «отрывать взора» от призрака абсурда, который в противном случае исчезнет (с. 53). Христианин держится за край ризы Спасителя, таким же образом Камю держится за абсурд, требующий от своего служителя «предельного напряжения» сил «в полном одиночестве» (с. 54). Так Камю противопоставляет конкретную практику абсурда христианскому монашескому подвигу. Основанный на этой практике свой собственный «экзистенциальный подход» Камю называет «философским самоубийством»: софистически он пришел к тому, что искомым им бунтом против Бога является как раз продолжение абсурдного земного существования, тогда как реальный суицид – это капитуляция. Итак, Камю ищет бунта более радикального, чем самоубийство Кириллова из «Бесов». Он ищет большей свободы, чем та, что достигнута Кирилловым, сделавшимся «богом», – свободы Сизифа в аду, – ищет, по его собственному слову, «смерти без отречения, а не добровольного ухода из жизни» (с. 54).
Так, совершенно сознательно и ответственно, Камю встаёт на путь смерти, проповедует «божественную отрешенность приговорённого к смерти» (которую позднее воплотит в образе Мерсо): «ведь человек абсурда лицом к лицу со смертью ‹…› по отношению ко всем общим правилам совершенно свободен» (с. 55). Для абсурдиста «смерть становится единственной реальностью» (с. 55) – и, парадоксально, вместе с этим ему делается доступным «чистый пламень жизни» (с. 56). Невольно Камю принимает интонацию духовного учителя и проповедует софистическое освобождение через особую медитацию: «Погрузиться в эту бездонную достоверность [смерти], почувствовать себя достаточно чуждым собственной жизни [это интуиция «постороннего» Мерсо. – Н.Б. ] – чтобы возвеличить ее и идти по ней ‹…›» (с. 56). Здесь тот же Сизифов апофеоз земного существования, великая иллюзия, в сетях которой, вместе с греческим героем, запутался и Камю. От «общих правил» Шестова освобождает Бог, который выше природных закономерностей и пребывает по ту сторону этических добра и зла; «богами» – последними инстанциями в абсурдном мире Камю являются Смерть и «царственный случай», создающий будто бы из хаоса «божественное равновесие» (с. 51). На этих основаниях, считает Камю, возможно создание человеческого братства. В отличие от Шестова, Камю хотел бы видеть себя в кругу некоего «мы»: «Все церкви против нас, мы понимаем это. Нашим сердцам недоступно вечное, и мы сторонимся церквей, претендующих на вечность» (с. 73). Посвятив десятки страниц «Бунтующего человека» (это уже 1950-е годы) критике марксизма, Камю, как кажется, не принимал лишь его псевдорелигиозного пафоса – ведь «Маркса можно считать Иеремией бога истории и святым Августином революции» [350]. Во всем прочем Камю разделял мещанские идеалы научного социализма. Свою квазицерковь он хотел основать на «соразмерных» человеку «истинах» – на «счастье», «мужестве», «заработке», «справедливости» (с. 73): «Дым земных очагов стоит райских благовоний» (с. 75). И всё это уже скучно – наши мыслители называли плоский социум царством «грядущего хама».
Получение Нобелевской премии (1957 г.) воодушевило Камю и укрепило его веру в свою миссию. Именно искусство должно объединить людей, «великого художника» влечет «идеал всемирного сообщества». «Будем реалистами», – обращается Камю к писателям, имея в виду художественную апологию земной реальности: «Море, дожди, нужда, желание, борьба со смертью – вот что объединяет людей» [351]. Шестов был индивидуалистом, почти аутистом – Камю, как видно, открыто ориентировался на «всемство». Но вот в общей эстетике Камю много шестовского. Думаю, что здесь дело не в заимствовании, но в общности некоторых основных интуиций. Для Камю художественное творчество абсурдно: «Произведение искусства порождается отказом ума объяснить конкретное. Произведение знаменует триумф плоти. Ясная мысль вызывает произведение искусства, но тем самым себя же и отрицает», «произведение ‹…› результат зачастую невыразимой философии» [352]. Шестов мыслил сходно, когда называл (еще в книге о Шекспире 1898 г.) великих художников истинными «философами жизни», противопоставляя их произведения философским умозрениям. По этому первому значительному шестовскому труду еще нельзя было заключить, куда клонится мысль того, кто окажется первым экзистенциалистом новейшего времени. Отстаивая правду жизни, Шестов на самом деле начал борьбу за индивида с его уникальной правдой. И вот, в 1957 году экзистенциалист Камю приходит к чисто шестовскому воззрению, когда заявляет, что художник «оправдывает» действительность, будучи «вечным адвокатом живого человека» [353]. Но там, где Шестов и Камю на словах сходятся, их близость всё же формальна и не распространяется на глубину их учений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: