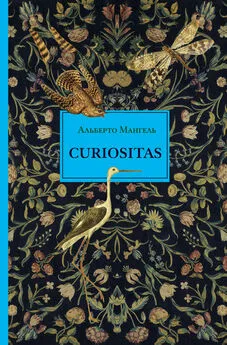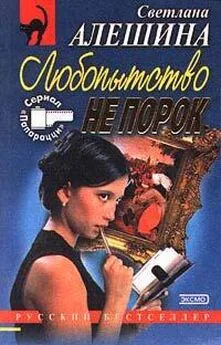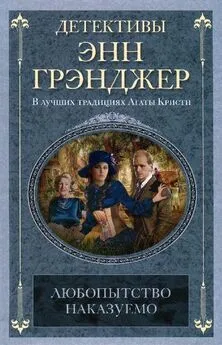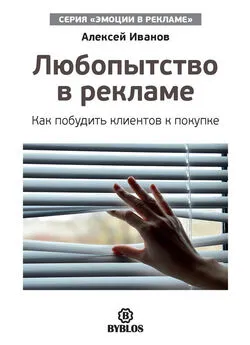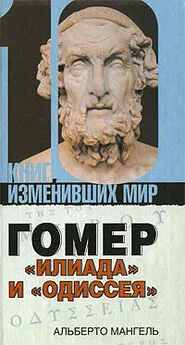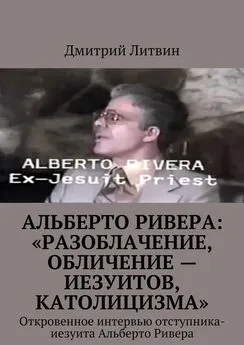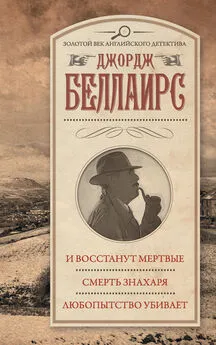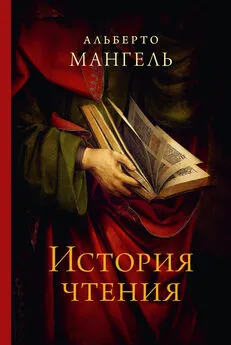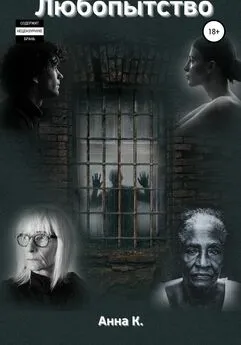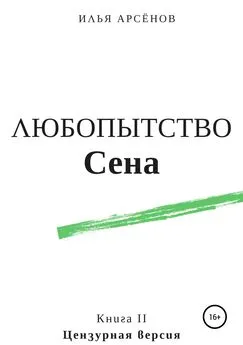Альберто Мангель - Curiositas. Любопытство
- Название:Curiositas. Любопытство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-281-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альберто Мангель - Curiositas. Любопытство краткое содержание
Curiositas. Любопытство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Данте – поэт и должен словами изображать характер Улисса, его похождения, да и тот многоплановый контекст, в котором царь Итаки рассказывает о своей судьбе, но в то же время автору нельзя оставлять своему пылкому повествователю возможность достижения желанного блага. Странствие – это еще не все, и слова – не все: Улисс неизбежно терпит крах, потому что, поддавшись всепоглощающему любопытству, спутал вокабулярий, которым обладал, с истинным знанием.
Ремесло Данте требовало подчинить конструкцию поэмы незыблемым принципам устроения христианского потустороннего мира, так что по большому счету Улиссу в Аду положено место, отведенное для душ, повинных в воровстве духовном: он пользовался дарованным ему умом, вводя других в заблуждение. Но что разжигало в нем страсть к обману? Подобно Сократу, Улисс уравнивает добродетель и знание, создавая средствами риторики иллюзию, будто представление о добродетели по сути то же, что и наделенность ею [69] См.: G. Mazzotta Dante, Poet of the Desert: History and Allegory in the «Divine Comedy». Princeton: Princeton University Press, 1979. P. 66–106.
. Но Данте интересно вовсе не раскрыть «грех от ума». Важнее другое: он хочет услышать от Улисса, что заставило его после всех опасностей, уготованных Посейдоном на обратном пути из Трои, плыть не к домашнему очагу, не к Пенелопе, а в неведомую даль [70] Остается неясным, отправился ли дантовский Улисс в последнее роковое странствие уже после возвращения на Итаку (как полагает Теннисон), или он и вовсе туда не возвращался и продолжил похождения, начало которых описано у Гомера.
. Поэт хочет знать, в чем источник любознательности Улисса. И ведет свой рассказ, чтобы в этом разобраться.
Так повелось, что от витка к витку исторической спирали сюжеты повторяются в различных формах и видах: мы не знаем, когда тот или иной рассказ прозвучал впервые, но можно не сомневаться, что он прозвучит еще не раз. До первой известной хроники странствия Улисса наверняка была другая «Одиссея», о которой мы ничего не знаем, а до появления первой батальной эпопеи стихи «Илиады», верно, пел поэт, чья фигура выглядит еще более туманно, чем сам Гомер. Раз уж воображение, как мы отметили выше, стало для нашего вида средством выживания в этом мире, и все мы, хорошо это или плохо, рождены со свойственной Улиссу ardore , а благодаря историям, звучавшим вечерами у первых бивачных костров, наша фантазия служит горению этой страсти, ни один рассказ не может по праву считаться первозданным или уникальным. Какой сюжет ни возьми, возникает ощущение déjà lu [71] Буквально – «уже прочитанного» ( фр. ), по аналогии с «уже виденным», «дежавю».
. Искусство повествования, которому, похоже, не будет конца, в сущности не имеет и начала. Раз нет первого из рассказов, сюжеты в ретроспективе даруют нам своего рода бессмертие.
Мы придумываем истории, чтобы придать форму нашим вопросам; читаем или слушаем их, чтобы понять, что мы хотим узнать. Перелистывая страницы, мы будем улавливать все тот же вопросительный импульс и интересоваться, кто и что сделал, зачем и как, – так что и себя, в свою очередь, можем спросить, чем это мы занимаемся, как и зачем и что будет, если некое событие свершится или не свершится. В этом смысле все сюжеты – отражение того, о чем, кажется, мы еще не знаем. Если история хороша, читатель загорится желанием узнать продолжение; но одновременно, противореча самому себе, захочет, чтобы она не кончалась: такая путаница оправдывает нашу тягу к рассказыванию и не позволяет угаснуть нашему любопытству.
Но даже если мы это понимаем, нас больше заботит начало, нежели финал. Финал – нечто само собой разумеющееся; порой мы даже готовы до бесконечности его откладывать. Финалы обычно служат нам утешением: они позволяют подвести призрачный итог; потому мы и нуждаемся в memento mori [72] Помни о смерти ( лат. ). Латинское крылатое выражение, служащее символическим напоминанием о бренности всего сущего.
– чтобы не забывать, что мы и сами не вечны. Проблема начала волнует нас изо дня в день. Мы хотим знать, где и как все начинается, ищем смысл в этимологии, нам нравится быть свидетелями рождения: видимо, причина этому в чувстве, будто пришедшее в этот мир первым оправдывает или объясняет все, что появляется следом. И мы создаем истории, в которых находим отправную точку, и, оглядываясь на нее, чувствуем себя увереннее, каким бы трудным и спорным ни был дальнейший ход событий. Зато всегда бытовало мнение, что сочинять финалы проще. «Для хороших там все кончалось хорошо, а для плохих – плохо. Это называется беллетристикой», – сообщает нам мисс Призм в пьесе «Как важно быть серьезным» [73] O. Wilde The Importance of Being Earnest. L.: Nick Hern Books, 1995. P. 32. Перевод И. Кашкина.
.
Придумывание начала – сложный процесс воображения. К примеру, несмотря на то что Библия сразу же открывает возможность для бесчисленных повествовательных вариаций, начало в Священном Писании задано иными, более определенными сюжетами. На первых страницах Книги Бытия одна за другой приводятся две картины происхождения мира. Одна изложена так: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (1, 27). Вторая показывает, как Бог, чтобы дать Адаму «помощника», погрузил его в глубокий сон и извлек его ребро, из которого «создал жену» (2, 18, 21–25). Божественный акт творения подразумевает подчиненную роль женщины. Многочисленные библейские толкователи объясняют, что именно поэтому женщина, низшее существо, должна подчиняться мужчине; к счастью, есть другие трактовки, в которых патриархальное прочтение переосмысливается в пользу большего равноправия.
В I веке н. э. еврейский мыслитель Филон Александрийский, рассматривая парную нарративную структуру Книги Бытия, предложил считать самой ранней библейской интерпретацией платоновское ви́дение, согласно которому Бог сотворил первого человека гермафродитом («мужчину и женщину сотворил его »), а следом упоминал мизогинический, «женоненавистнический» подход, в котором мужская половина, по замыслу, превыше женской. Филон отождествлял мужскую половину (Адама) с духом ( nous ), а женскую (Еву) с чувственностью ( aesthesis ). Отделенная от Адама, словно олицетворяющая разделение чувств и разума, Ева в акте творения лишена изначальной невинности Адама, что становится существенным в эпизоде грехопадения [74] См.: Philo // L. Jacob The Jewish Religion: A Companion. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 377.
. Два века спустя блаженный Августин в своем буквалистском толковании Книги Бытия признает изначальную невинность Евы, утверждая, что в первом изложении Адам и Ева, у которых еще нет имен, при сотворении получают все свои духовные и телесные черты in potentia [75] Потенциально ( лат. ).
, то есть в скрытой данности, которая проявится в плотском существовании, как следует из другого изложения [76] См.: Saint Augustine On Genesis. Hyde Park, N. Y.: New City Press, 2002. P. 83.
. Вот что значит «съесть пирог дважды»! [77] От английской пословицы You can’t have your cake and eat it («Нельзя и сохранить пирог и съесть его»).
Интервал:
Закладка: