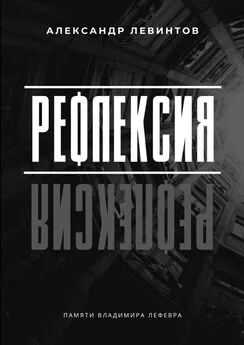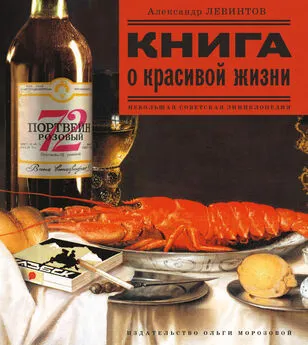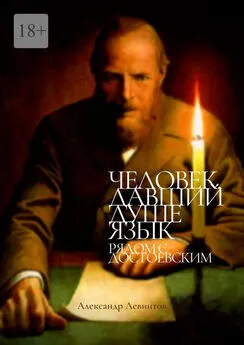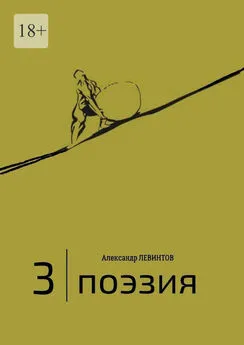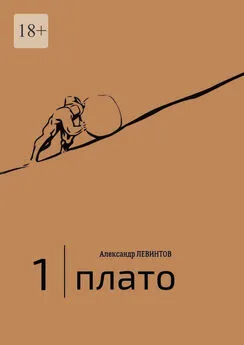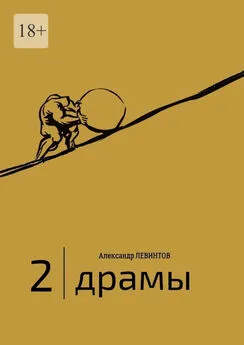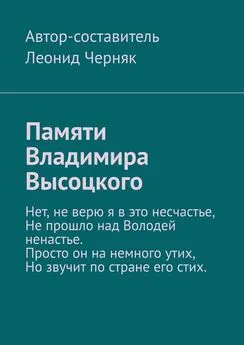Александр Левинтов - Рефлексия. Памяти Владимира Лефевра
- Название:Рефлексия. Памяти Владимира Лефевра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005345431
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Левинтов - Рефлексия. Памяти Владимира Лефевра краткое содержание
Рефлексия. Памяти Владимира Лефевра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В еще менее выраженной форме понимание присутствует в пространстве между мысль-коммуникацией и мыследействием: оно представлено осмысленными ( рефлексивно отнормированными и закрепленными в практике и опыте ) навыками и умениями.
И, наконец, все пространство мысль-коммуникации заполнено ( или осваивается ) пониманием, непременным условием коммуникации, превращающейся без этого понимания в бред и абсурд. Это означает, что ПР и РП пронизывают собой мысль-коммуникацию, конфигурируют в ней лакуны взаимонепонимания, делают ее драматически сложной, турбулентной – живой.
Адекватная схеме коллективной мыследеятельности, схема полипроцесса образования представлена просвещением (в слое мышления), воспитанием (в слое мысль-коммуникации) и обучением (в слое мыследействия). Это может показаться парадоксальным и даже экстравагантным, но лингвистическое образование ориентировано прежде всего на воспитание речевых норм коммуникации и поведения (реальный пример, подтверждающий эту мысль: в парную входит американский преподаватель русского языка, интеллигентный даже в голом виде, что дано преимущественно лишь русским, и грамматически абсолютно правильно, без тени акцента говорит: «С легким паром!»; сидящий со мной русский, совершенно не привыкший к местным особенностям, от изумления чуть не катится с верхней полки, а потом трагическим шепотом предупреждает меня: «это не наш человек!» – ну, не принято у нас желать друг другу легкого пара до завершения банного ритуала).
Сознанию свойственна метонимия и экономность: во многом этим объясняется свернутость многих речевых и прочих культурных норм в символы. Чем универсальней символ, чем больше смыслов упаковано и запечатано в нем, тем более он не поддается пониманию и, за счет дефицита понимания, тем богаче и разнообразней ПР, тем сильнее искушение впасть в бездны РП.
Проблема РП и ПР – перманентная проблема лингвистического образования именно в силу упора на речевое воспитание. Однако существуют и специфические трудности и проблемы в пограничном пространстве между воспитанием и просвещением: надо обладать особой прыгучестью, чтобы объяснять исключения из правил окончаний множественного числа существительных в родительном падеже людям, до сих пор жившим в уютном мире отсутствующих падежей. В этой ситуации ПР просвещаемого пытается связать вместе идею падежа вообще, 15 функций родительного падежа, 7 групп правильного склонения во множественном числе, 11 групп неправильного склонения в том же числе плюс исключения из этих исключений (например, «семян», выходящих из общего ряда исключений «времен», «знамен», «имен» и т.д.) – когда дело доходит до этих семян, ПР сменяется РП: зачем это все понадобилось таким странным русским, как они все этосами понимают, удерживают в головах и даже оперируют этим, и почему он, просвещаемый, должен все это терпеть? Вполне экзистенциальная, хотя и неприличная по форме мысль о несчастном финале детства, а, возможно, и зачатия, окончательно выбивается с пути понимания, застревая на гамлетовом «А не дурак ли я?» – и только после этого возникает понимание того, что все эти грамматические сложности – цена компактности языка, что бесконечному нанизыванию слов в английском может быть противопоставлена русская игра в управление суффиксами, окончаниями и приставками немногочисленных слов.
В лингвистическом обучении плотность понимания минимальна. Эта ненапряженность пространства понимания почти исключает и ПР и РП. Вполне возможно, здесь дело не в природе мыследействия, а в преобладании педагогических средств обучения: запоминание за счет бесконечных повторений, навязывание речевых автоматизмов, ориентация на скорость говорения и использование готовых фразовых конструкций.
У детей лингвистическое просвещение начинается гораздо позже воспитания и обучения. У взрослых, увы, все три процесса совмещены во времени. Ничто так не мешает лингвистическому обучению, как параллельно текущее лингвистическое просвещение – они взаимоисключают друг друга вопросами, типичными для ПР и РП: зачем? почему? на каком основании?
Эти вопросы зримо срываются с губ образуемых и время от времени даже посещают образователей, большинство из которых, из-за неудобства подобных вопросов, накладывают табу на вопросы понимания: «так сложилось!», «в лингвистике вопрос „почему“ отсутстствует», «не отнимайте время!» и т. п.
Не отрицая всех трудностей, дискомфорта и проблемности, прихотливости ПР и РП в образовании, особенно в лингвистическом образовании, попытаемся все же выйти на конструктивный путь и ответить на вопрос об организации пространства ПР и РП.
Трехортное пространство ПР представлено плоскостью наших целей (или предцелей – желаний, интересов, всего того, что Ансельм Кентерберийский называл интендированием) или, что то же самое, дефектной ведомостью наших средств (недостающих или негодных средств). Второй ортой является плоскость наших потенций, накопленного или данного от природы и Бога потенциала (таланта, способностей, наклонностей). Наконец, третью плоскость следует назвать задачной – она представлена задаваемыми извне (учителем, обстоятельствами, ситуацией) требованиями, приказами, заданиями и указаниями, порой и чаще всего слабо согласуемыми (иногда даже противоречивыми) плоскости интендирования: только очень послушные отличники, ботаны и буквари умудряются внутренне согласовывать внешние импульсы с внутренними, ловко переводя экзогенные факторы в режим эндогенных.
Совсем иные декорации – у РП: основанием этого пространства является плоскость «так не бывает!» – некоторая антиобъектная плоскость, которую можно интерпретировать также в качестве антиконнотантной. Негативное содержание основания РП делает этот основание бездонным, благодаря чему возникает ощущение пустоты, глубочайшей пустоты ( некоторые при этом ощущают необыкновенный прилив свободы, другие – столь же мощный прилив страха и неуверенности в себе – в любом случае эта пустота потенциально чревата творческими разрешениями, но только потенциально). Две других ортогонали пространства РП – теоретические и исторические устои и опоры: не доверяя себе, собственному опыту и интеллекту в условиях повисания над пустотой, мы обращаемся к известным нам теоретическим утешениям и построениям («это невозможно, потому что не укладывается в общую теоретическую схему») либо исторической практике человечества, доступной нам («это невозможно, потому что такого еще не было»).
Таким образом, пространство РП призвано, прежде всего, проблематизировать не объект понимания-непонимания (уже существующий, но пока недоступный нам), а наши теоретические и исторические знания, действительности и представления. В пространстве РП начинается ревизия и инвентаризация нашего теоретического и исторического багажа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: