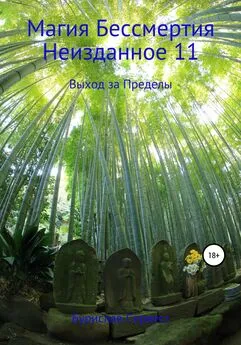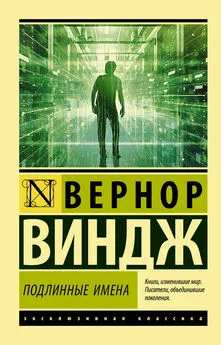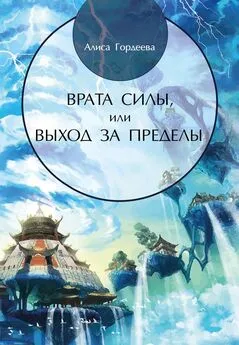Борис Юдин - Человек: выход за пределы (сборник)
- Название:Человек: выход за пределы (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-89826-517-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Юдин - Человек: выход за пределы (сборник) краткое содержание
Основная идея, которую защищает автор – необходимость широкой общественной дискуссии вокруг науки и научных технологий, с привлечением всех заинтересованных сторон и ориентированной на всестороннюю оценку технологических рисков для человека. Философия и гуманитарное знание должны взять на себя функцию гуманитарной экспертизы новых технологий, которые трансформируют основные границы человеческого существования – между жизнью и смертью, между нерождённой и родившейся жизнью, между видами, а также между человеком и машиной. Науку необходимо понимать как ценностно ориентированное предприятие, и добросовестность научных исследований можно обеспечить только с помощью этического сопровождения научной деятельности.
Книга предназначена философам, социологам, психологам, биологам, медикам и всем, интересующимся проблемами этики науки и научных технологий в современном обществе.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Человек: выход за пределы (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, человек вообще и человек-как-испытуемый – это далеко не одно и то же. Будем понимать под антропологией биомедицинского исследования выявление тех предпосылок относительно человека как испытуемого, которыми руководствуется исследователь, планирующий и реализующий свой исследовательский проект. Несмотря на то что эти предпосылки чаще всего не осознаются исследователем, они тем не менее в существенной мере определяют круг проблем, которые могут осмысленно ставиться как проблемы, подлежащие изучению, и которые в принципе могут быть решены в ходе исследования. Иными словами, если исследование вообще понимать как вопрошание, тогда то, что мы, собственно говоря, вопрошаем, в существенной степени обусловлено тем, о чем и у чего мы вопрошаем.
Когда же речь идет об исследовании, проводимом на человеке, то здесь по сравнению со всеми другими исследованиями возникает дополнительная сложность: важно не только то, о чем мы вопрошаем, но также и то, о ком мы вопрошаем, а это различие порождает массу самых разнообразных нюансов. Таким образом, антропология биомедицинского исследования – это один из путей осмысления того, что такое вообще есть биомедицинское исследование, и далее – того, на получение чего мы, методологически грамотно подходя к проектированию биомедицинского исследования, вправе рассчитывать при его проведении.
Рассмотрим теперь два различных варианта антропологии биомедицинского исследования, расхождения между которыми могут доходить до противоположности. Первый из них является первым, изначальным и с исторической точки зрения; он же, вообще говоря, всем нам представляется и более привычным. Его, быть может, самое контрастное выражение можно будет найти, вернувшись ко временам Второй мировой войны.
В те годы в оккупированном Японией Китае, недалеко от Харбина, действовал японский исследовательский центр – знаменитый «Отряд 731» [40] Моримура С . Кухня дьявола. М.: Прогресс, 1983.
. Его главной задачей была разработка биологического оружия. Те или иные разновидности этого оружия испытывались в ходе экспериментов на людях; в качестве испытуемых использовались заключенные, которых привозили в специальную тюрьму, расположенную на территории этого отряда. В декабре 1949 г. в Хабаровске проходил судебный процесс, в ходе которого на скамье подсудимых оказались те, кто готовил и проводил эти эксперименты. Материалы процесса были опубликованы, благодаря чему стали доступными уникальные материалы и свидетельства, касающиеся одного из наиболее жестоких эпизодов в истории биомедицинских исследований [41] Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. М.: Государственное издательство политической литературы, 1950. С. 540; Юдин Б.Г. Из истории биомедицинских исследований на человеке: Хабаровский процесс 1949 г. // Вопросы истории естествознания и техники. 2009. № 4. С. 107–125; Yudin B.G. Research on Humans at the Khabarovsk War Crimes Trial: A Historical and Ethical Examination // Japan’s Wartime Medical Atrocities. Comparative Inquiries in Science, History, and Ethics / ed. by Jing-Bao Nie et al. L.; N.Y.: Routledge. 2010. Р. 59–78.
.
Характерно, что испытуемых-заключенных при этом деперсонифицировали: они лишались имен, а те, кто работал в отряде, называли этих заключенных «марута», в переводе с японского – бревнами.
В литературе, посвященной «Отряду 731», выдвигаются различные версии того, зачем это делалось. Согласно наиболее распространенной версии целью такой деперсонификации была психологическая защита: если исследователи, как и все те, кто имеет дело с этими испытуемыми, не воспринимают их как людей, то психологически будет легче подвергать этих людей всему тому, что предполагалось делать с ними в ходе экспериментов.
Каковы же были ценностные основания и моральные предпосылки, делавшие возможным проведение жесточайших экспериментов в массовых, если угодно – индустриальных, масштабах? Этот вопрос можно сформулировать и таким образом: как должны понимать человеческое существо те, кто считает допустимым подвергать пыткам и жестокостям так много людей? Отдельный жестокий поступок можно объяснить случайностью; однако, принимая во внимание масштабы этих экспериментов, мы должны допустить, что у экспериментаторов были какие-то обоснования, позволявшие им принять такого рода исследования. Безусловно, сама по себе жестокость, имевшая место в «Отряде 731», отнюдь не уникальна: история человечества изобилует такого рода примерами. Тем не менее можно попытаться понять некоторые аспекты такого рода практик, реализовывавшихся в области биомедицинских исследований.
Прежде всего необходимым условием применения такого рода технологий является различение «мы» и «они». «Мы» – это те, кто проводит эксперименты наряду с теми, кого экспериментаторы относят к той же самой категории. «Они» принадлежат к другой категории и могут в какой-то мере рассматриваться как «нечеловеки».
Наиболее распространенной основой такого различения является раса или этничность. И в нашем случае это основание нашло свое применение. Вот что пишет Дж. У. Доуэр о японской теории расового превосходства: «Первой расой – расой хозяев – были японцы, второй – родственные расы, такие как китайцы и корейцы, а третьей – раса гостей, состоящая из островных народов, таких как жители Самоа. Все неяпонские расы рассматривались как низшие формы жизни, которые должны быть подчинены Японии» [42] Dower J.W . War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War. N.Y.: Pantheon Books. 1986. Р. 8.
. Это означало, что можно приносить в жертву людей тех рас, которые считались низшими.
Действительно, вопрос о расе играл существенную роль при выборе испытуемых. В литературе нет упоминаний об использовании в таком качестве японцев. Однако большинство экспериментов было проведено над теми, кто принадлежал к одной из «родственных рас», на китайцах. Это значит, что расовый критерий был не единственным для категоризации «мы» и «они».
Другое основание, использовавшееся японскими военными, – это выбор испытуемых среди вражеского населения, будь то действительные или возможные враги. Так называемые законы военного времени, вообще говоря, очень часто толкуются как оправдание самых разных жестокостей, включая и ужасные эксперименты. Дополнительным оправданием было сформулированное Исии Сиро, генерал-лейтенантом медицинской службы, идейным вдохновителем и организатором «Отряда 731», специфическое понимание военной медицины, которая «состоит не только в лечении и превентизации, подлинная военная медицина предназначена для нападения» [43] Рагинский М.Ю . Милитаристы на скамье подсудимых (по материалам Токийского и Хабаровского процессов). М.: Юридическая литература, 1985. С. 167.
.
Интервал:
Закладка:
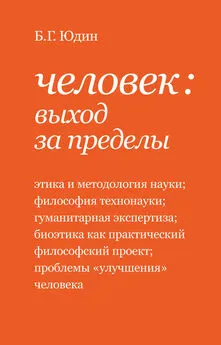
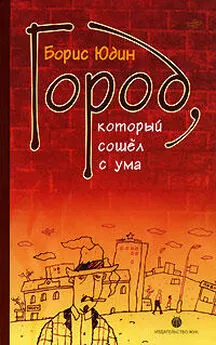
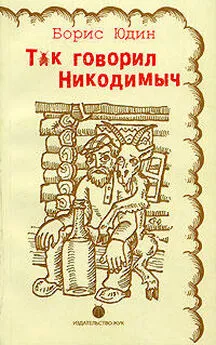

![Вернор Виндж - «Подлинные имена» и выход за пределы киберпространства [сборник litres]](/books/1145766/vernor-vindzh-podlinnye-imena-i-vyhod-za-predely.webp)