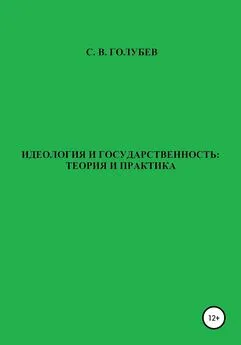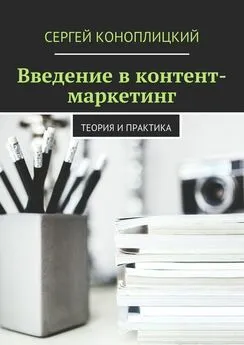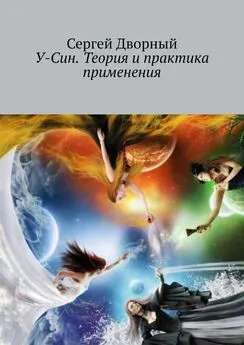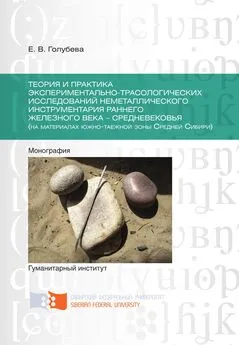Сергей Голубев - Идеология и государственность: теория и практика
- Название:Идеология и государственность: теория и практика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Голубев - Идеология и государственность: теория и практика краткое содержание
Идеология и государственность: теория и практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На теоретическом уровне и качестве логики этого произведения не могли, очевидно, не сказаться идеологическая ангажированность, прямо заявленная в «Предисловии» и, поверхностная сенсуалистическая философия, которой придерживался автор. Неудивительно поэтому, что, например, де Местр дал локковским конструкциям весьма резкую оценку: «Локк умудрился написать полсотни страниц о свободе, не понимая даже, о чем ведет речь» и «о происхождении законов рассуждал он также скверно, как и о происхождении идей» 133 133 Де Местр, Ж. Санкт-петербургские вечера. СПб.1998. С. 269, 329.
. Ещё резче выразился поэт и мыслитель Ф. Шиллер, сказавший в письме к Гете: «Я презираю Локка» 134 134 Гёте и Шиллер. Переписка. В 2 т. Т. 2. С. 432.
. Ф. Ницше считал, что Локк, (как, кстати, и Гоббс), относится к тем, кто «унизили и умалили значение понятия философ» 135 135 Ницше, Ф. Соч. Т. 2. С. 373.
. Так что, наряду с «буржуазными панегириками» есть и другие оценки политической и, конечно, не только политической «мудрости» Локка. Однако какими бы различными не были эти оценки, труды Локка сыграли заметную роль, если не в развитии философии, то в общественной жизни 18 века: «Во второй трети века, – отмечает И. С. Нарский, – Локк был главным теоретическим авторитетом для всех европейских просветителей» 136 136 Нарский, И. С. Указ. Соч. С. 74.
.
Просвещение, подготовившее Французскую революцию и крушение «старых режимов» действительно во многом опиралось на идеи основоположника либерализма. Так что, идейно-политическое, идеологическое «дело» Локка «не пропало». Его непосредственным продолжателем (и, конечно, продолжателем Гоббса) стал еще один крупнейший представитель политической мысли Нового Времени – Ж.-Ж. Руссо, согласно общепринятому мнению, – главный идеолог Французской революции. Вслед за Гоббсом и Локком, он также постулирует ставшее, само собой разумеющимся для продолжающей софистическую традицию политической мысли Нового времени, существование «естественного», догосударственного состояния и, соответственно, равенство, и свободу людей «по природе», но, в отличие от них, считает, что «общество и законы… безвозвратно уничтожили естественную свободу, навсегда установили закон собственности и неравенства» 137 137 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 84.
. Здесь, как видим, достаточно существенное различие: если у английских теоретиков «общественного договора» государство обеспечивает безопасность и даже (у Локка) некоторую свободу индивида, то у Руссо оно (в исторически известных формах), едва ли не совершенное зло, извращающее изначально добрую природу человека. Таким образом, впервые после двухтысячелетнего «перерыва», появляется социально-политическая теория, в рамках которой фактически реанимируется фундаментальное положение кинической философии, – не только государство, практически все важнейшие социальные институты, не исключая и собственности, по сути, культура в целом, трактуется как то, что «порабощает» человека.
Такое прискорбное состояние общественной жизни проистекает из того, что все ранее существовавшие и ныне существующие государства управляются не «Разумом», не «Общей волей», а частными эгоистическими интересами тех, кто находится у власти. В этом корень всех «бед и несчастий» как общества в целом, так и каждого отдельного индивида. Соответственно, необходимо устроить государство таким образом, чтобы исключить, в принципе, возможность эгоистического управления общественными делами. В таком случае, прекратится навсегда подавление свободы большинства меньшинством, станет невозможной эксплуатация , будет достигнуто, наконец, такое государственное состояние, в котором, как и в естественном, все люди будут «равны и свободны». И Руссо обещает «найти такую форму объединения людей, благодаря которой, каждый соединяясь со всеми подчиняется, однако, только самому себе, оставаясь столь же свободным, сколь и прежде» 138 138 Там же. С. 107
.
Исходя, в общем, из тех же принципов, что и его предшественники, французский мыслитель, тем не менее, выстраивает существенно иную концепцию «общественного договора». Подлинный, «без обмана» общественный договор еще только предстоит заключить и сам акт его заключения «создает условное коллективное целое», таким образом, что «всякий ставит себя под высшее управление общей воли» 139 139 Там же. С. 161.
. «Общая воля», согласно Руссо, что он специально подчеркивает, не есть воля большинства, или даже некая механистически найденная результирующая воли всех, последняя вообще вряд ли возможна.
Там самым, Руссо преодолевает гоббсовский механицизм (в свою очередь восходящий к атомизму Демокрита) в понимании оснований государственности. «Общая воля», вообще говоря, есть некая духовная, метафизическая сущность, устанавливаемая «Разумом» и направляющая к Общему благу . Её выяснение необходимо для правильного устроения и функционирования государства. Более того, она и отдельному индивиду, каждому гражданину, указует в чем состоит его подлинное благо. По существу, «Общая воля» у автора «Общественного договора» играет ту же роль, что и Справедливость , и Высшее благо в учениях Платона и Аристотеля, – роль надындивидуального ценностного основания государственного устройства, с тем, однако, принципиальным отличием, что эта воля никак не связана с сакральным, с религиозными установлениями. Если у греческих мыслителей социальное как таковое, опирается на сакральное, на логос Космоса, частным проявлением которого и является политическая власть, государство, то у глашатая новых принципов, революционера Руссо, социальное отныне должно было найти опору в добрых намерениях просвещённого индивида. Такая интенция а-теистического сознания с необходимостью ведет к продуцированию, посредством «Разума» абстракций, химер , опирающихся на пустоту, и, соответственно, пригодных к наполнению любым содержанием.
Руссоистская версия «общественного договора», таким образом, с одной стороны, в сугубо внешней форме возвращает идею необходимости объективного трансцендентного основания государственности в социальную теорию (а значит, раньше или позже, и в социальную практику), а с другой, – придает этой идее десакрализованный, и даже специально антирелигиозный характер. Здесь необходимо отметить важнейшее, как для теории, так и для практики обстоятельство. Поскольку трансцендентное предоставлено усмотрению «Разума» и противопоставляется сакральному, оно (трансцендентное) утрачивает не только свою «трансцендентность», но вместе с ней и свою способность служить объективным основанием не только политического теоретизирования, но и реальной политической практики, государственного строительства, вообще, социальных норм как таковых. Иначе говоря, создается, концептуально-теоретически обосновывается такое положение дел, когда «Общая воля» сама себя «объективирует», и в качестве Воли народа сама себя освящает. Она оказывается подлинным источником Истины, Справедливости и Добра, и фактически, в соответствии с максимой «глас народа – глас Божий», замещает место воли Бога, становясь, по сути, квазирелигиозным представлением и ценностью. Неслучайно современный католический мыслитель К. Доусон говорил, что «Руссо явился основателем и пророком новой веры–религии демократии» 140 140 Доусон, К. Боги революции. СПБ., 2001. С.110.
. О квазирелигиозности руссоизма и её последствиях очень точно сказал К. Шмитт в «Диктатуре»: «Всеобщая воля» возводится до божественного достоинства и уничтожает всякую особенную волю и все особенные интересы, которые в отношении её выглядят просто воровством. Поэтому вопрос о неотчуждаемых правах индивидуума и о сфере свободы, не допускающей вмешательства суверенной всеобщей воли можно больше не поднимать. Он устраняется простой альтернативой, в которой индивидуальное либо согласуется с всеобщим и тогда, в силу такой согласованности имеет некую ценность, либо не согласуется и тогда, как раз оказывается ничтожным, злым, испорченным и вообще не является волей достойной внимания в моральном или правовом смысле» 141 141 Шмитт, К. Диктатура. СПб., 2005. С. 141.
. Квазирелигиозный характер учения об «Общей воле» сполна проявился при попытке его практической реализации во времена Французской революции. Тогда последователи Руссо, проводники Воли народа , для укрепления новой государственности не замедлили объявить новый культ, – именно «культ Разума», глашатаями которого они стали по факту обладания политической властью.
Интервал:
Закладка: