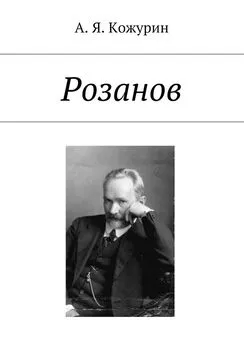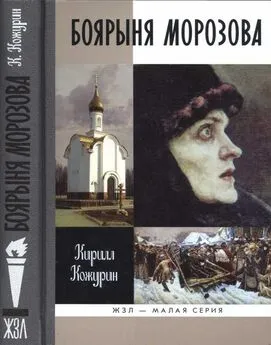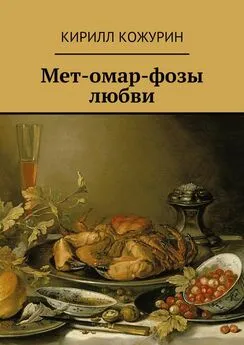А. Кожурин - Розанов
- Название:Розанов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448541476
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Кожурин - Розанов краткое содержание
Розанов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на всю оригинальность, Розанов множеством нитей связан с традицией европейской метафизики, особенно с ее древнегреческими истоками. Отсюда – двоякая задача, которую мы ставим в этой работе: выявит оригинальные теоретические построения мыслителя и в то же время показать их глубокую укорененность в традиции европейской философии. Современникам, даже сознававшим значение Розанова для русской культуры, подобное понимание было недоступно. В то же время показательно, что ни один из отечественных профессиональных философов первой половины прошлого века, снисходительно похлопывавших Василия Васильевича по плечу, не написал ничего подобного его книге «О понимании». Речь, разумеется, идет не только об объеме произведения, но и о том, что в нем предвосхищаются тенденции развития философии в XX столетии.
Говоря о недоброжелателях, отметим, что наиболее прямолинейно негативное отношение к Розанову-философу выразил П. Б. Струве. Позволим себе привести эту характеристику: «В. В. Розанов был, несомненно, гениальным писателем, хотя того, чем был силен Леонтьев, острого и глубокого ума, у Розанова совсем не было. Категория „ума“ вообще неприложима к Розанову. Розанов был замечательный до гениальности писатель, не будучи ни умным, ни, еще меньше, честным человеком в общепринятом смысле слова» [65, С.186]. Струве и Розанова связывали весьма непростые отношения. Струве был одним из первых представителей «левого» направления, отметивших незаурядный литературный талант героя нашей работы. Позднее, однако, между ними возникла ожесточенная перепалка, вызванная тем, что Розанов одновременно писал в газетах прямо противоположной политической ориентации (это были «Новое время» и «Русское слово»). В феврале 1918 года, однако, Розанов послал своему оппоненту примирительное письмо [138, С.680—682].
Вернемся, однако, к приведенным выше словам Струве. Единственная, имеющая отношение к Розанову характеристика, – «гениальный писатель». Можно, в принципе, согласится и с оценкой типов мышления Розанова и Леонтьева как разнокачественных, хотя вывод, который из этого делает Струве, не выдерживает никакой критики. Как нам представляется, определенный отпечаток на восприятие Струве наследия Розанова наложила полемика, которая вспыхнула между ними перед Первой мировой войной, хотя дело не только в этом. Следует иметь в виду, что не только Струве с ходу отвергал сущностно философский характер творчества Розанова. Можно также вспомнить мысль Г. П. Федотова о том, что «вершины своего гения Розанов достигает в максимальной разорванности, распаде „умного“ сознания» [30, Кн. II, С.396].
В этой связи на ум приходит одно сравнение – восприятие творчества Ф. Ницше до того, как усилиями М. Хайдеггера был осуществлен его основательный философский анализ. Следует заметить, что в XIX столетии, помимо смены познавательных и ценностных установок, происходит радикальное изменение самой формы подачи материала. Подвергнув основательной критике рационалистические установки, создатели нового типа философствования (Шеллинг, Шопенгауэр, Э. фон Гартман) на первых порах все же сохранили традиционную форму системы. Лишь в последней четверти XIX столетия, если не брать особого случая Кьеркегора, философия нового типа приходит к необходимости сменить ее. Решающую роль в выходе из этого своеобразного лабиринта сыграл Ницше. Следует признать, что он нашел форму, адекватную той трансформации содержания философского знания, которую произвели его предшественники – от романтиков до Э. фон Гартмана. Вполне закономерно, что Ницше становится наиболее популярным и влиятельным философом XX века. Не случайно, что именно с ним сопоставляются крупнейшие русские мыслители рубежа XIX – XX веков.
Изменение формы подачи философского материала не мешало Ницше опираться на категориальный аппарат философии. Хайдеггер выделил в его творчестве пять основных категорий – «нигилизм», «переоценка всех прежних ценностей», «воля к власти», «вечное возвращение того же самого», «сверхчеловек». Затем он показал их место в философии Ницше, а также связал эту философию с традицией европейской метафизики. По мнению Хайдеггера, своей глубокой включенностью в метафизическую традицию концепция Ницше принципиально отличается от концепции Кьеркегора. В результате проведенного анализа выяснилось, что «мышление Ницше, пусть исторически оно и таково, что по букве должно было бы выдавать совсем иной нрав, не менее дельно и не менее строго, чем мышление Аристотеля, который в 4-й книге „Метафизики“ мыслит суждение о противоречии как первую истину относительно бытия сущего» [201, С.202].
Как нам представляется, нечто подобное необходимо предпринять и в отношении наследия Розанова. Лишь немногие исследователи отмечали систематический характер его творчества (в какой-то мере П. А. Флоренский, Ю. П. Иваск), в то время как большинство продолжало писать о противоречиях и несистематичности розановской философии. Но подобный подход долгое время практиковался и в отношении философии Ницше. Внутренняя логика идейного наследия последнего метафизика Запада стала очевидной только после фундаментальных изысканий Хайдеггера. В отношении Розанова подобная работа так и не была проведена. Нельзя забывать, что параллели между творчеством Розанова и Ницше современники стали проводить намного раньше, чем в случае с Фрейдом. Достаточно, например, вспомнить соответствующие места в произведениях Д. С. Мережковского, Д. В. Философова или Н. А. Бердяева. В этих работах Розанов оценивался как не менее великое явление антихристианства, чем Ницше. Нечто подобное необходимо констатировать и в отношении собственно философских идей русского мыслителя. Данное обстоятельство предполагает пристальное изучение категориального аппарата философии Розанова, что и станет главным объектом нашей работы.
При этом необходимо помнить, что, несмотря на близость в целом ряде аспектов к такому направлению, как «философия жизни», Розанов сохраняет несомненную преемственность с философской классикой – в первую очередь с античной традицией. Впрочем, если не идентифицировать философию жизни с определенным направлением европейской мысли конца XIX – начала XX века (В. Дильтей, Ф. Ницше, А. Бергсон, О. Шпенглер), то розановская концепция может быть интерпретирована как своеобразная философия жизни. Кроме того, в отличие от таких апостолов иррационализма как А. Бергсон и Л. Шестов (с последним Розанова сопоставляли и продолжают сопоставлять особенно часто), его концепцию отличает большее доверие к философскому логосу, а то и просто к логике. Библейская ориентация у Розанова предполагала не отказ от базовых установок греческой философии, чем характеризовалась концепция Л. Шестова, но доверие к началу разума. Хотя в литературе приходится встречаться и со следующими утверждениями: «В отличие от Шестова с его напряженной мыслью, хотя и обращенной против интеллекта, Розанов абсолютизирует биологическое, точнее – чисто физиологическое в человеке. Он откровенно противопоставляет интеллектуальной сфере интересы „желудка“ и „пола“» [121, С.173]. На наш взгляд, Розанов стремился опираться не только на религиозно-мистическую, но и на философскую составляющую европейской культуры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: