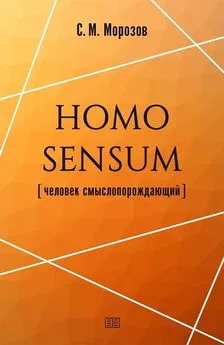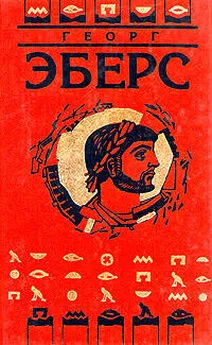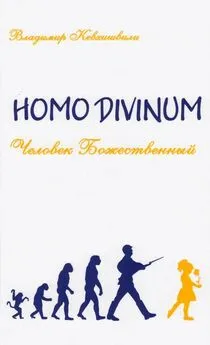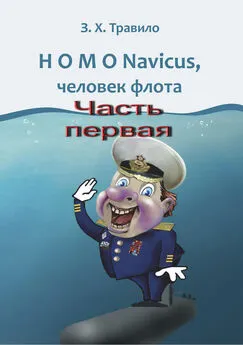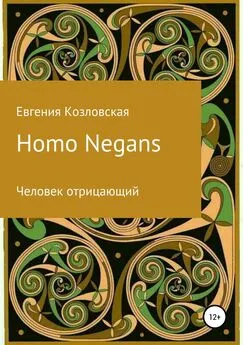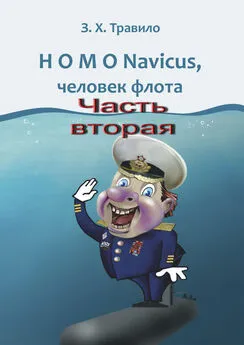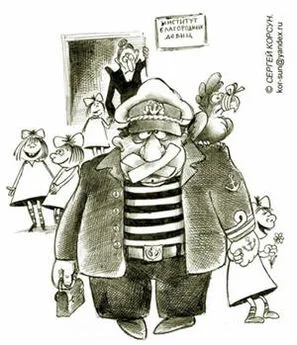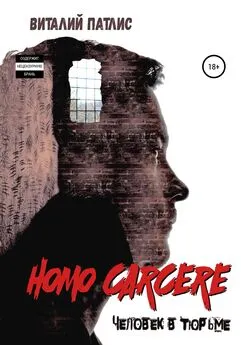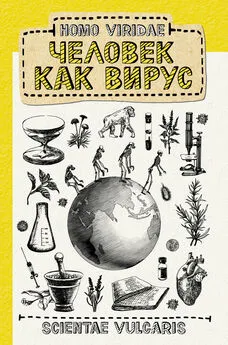Станислав Морозов - Homo sensum (человек смыслопорождающий)
- Название:Homo sensum (человек смыслопорождающий)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Морозов - Homo sensum (человек смыслопорождающий) краткое содержание
Homo sensum (человек смыслопорождающий) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Авторы статьи, опубликованной в 1981 г. (Лучков, Певзнер, 1981), подчеркивая, что творчеству Л.С.Выготского посвящены всего лишь одна книга (Брушлинский, 1968) и одно диссертационное исследование (Радзиховский, 1979), призвали поддержать призыв А.В.Петровского (1967) посвятить Выготскому не одну историко-психологическую монографию, дабы «вернуться к Выготскому (или вернуть Выготского)» (Лучков, Певзнер, 1981, с. 61).
За прошедшие десятилетия многое изменилось. Статьи, монографии, диссертации, содержащие анализ психологической системы Выготского, исчисляются десятками, а может быть, и сотнями. Кажется, к сказанному добавить уже нечего. И все же идеи «Моцарта в психологии» (Тулмин, 1981) привлекают все новых и новых исследователей.
Споря о том, кто же такой Выготский – символист или бихевиорист, интроспекционист или когнитивист, психолог, культуролог или методолог – психологическое сообщество так и не смогло придти к однозначному выводу. Главная причина подобного положения видится в фундаментальности самой теории Выготского, ее принципиальной несводимости к тому или иному стереотипу, к той или иной из существующих в современной психологии схем.
Если мы попробуем проанализировать отдельные «куски» психологической системы Выготского – статьи, книги и даже целые теоретические построения, созданные в разные периоды времени, – то неизбежно придем к выводу о его «ориентации» на одну из известных нам теорий. При рассмотрении статей Выготского, опубликованных в 1924–25 гг., может показаться, что истоки его теории – в бихевиоризме. В то же время, «надо обладать удивительным воображением, чтобы распознать в авторе «Психологии искусства» (1925) бихевиориста» (Мещеряков, Зинченко, 2000, с. 114). «Мышление и речь» писал психолингвист, причем придерживающийся «конвергенционизма» в четвертой главе и поэтики – в седьмой [4] Дж. Верч утверждает, что главы 5 и 6 «Мышления и речи» различаются тем, что в них принимается в качестве движущих сил развития: «продвижение» от «комплекса» к понятию или возникновение понятий в общественно обусловленной деятельности (Верч, 1996, с. 60).
.
Из сказанного можно сделать два вывода. Либо Лев Семенович Выготский на протяжении своего непродолжительного творческого пути с легкостью менял свои научные взгляды. И тогда удивительным выглядит интерес, который проявляют к нему серьезные психологи. Либо существуют изъяны в методологии «выготсковедения». А это означает, что необходимы новые попытки разобраться в принципах построения теории Выготского.
Анализ той или иной концепции может быть проведен на основании различных методологических установок. Можно, в частности, выделить три способа интерпретации концепций: а) в соответствии с одной установкой «внутриконцептуальной» позиции «интерпретатор видит свою задачу в том, чтобы достроить здание концепции, не завершенное, по его мнению, автором»; б) с точки зрения «надконцептуальной» позиции, «ценностью для исследователя-интерпретатора будет сохранение (точнее восстановление) целостности реконструируемого мира концепции, завершенного по замыслу, хотя, возможно, и не достроенного в деталях»; в) «при «межконцептуальной» позиции происходит критика фрагментов концепции под углом зрения возможности включения их в собственную теорию» (Постовалова, 1982, с. 7).
Вряд ли полноценный анализ может быть основан только на одном из перечисленных (или любых других) подходов. В то же время, та или иная преобладающая методологическая установка, «позиция», придает исследованию специфическую окраску. Используя описанную выше терминологию, можно сказать, что наш анализ прежде всего осуществляется с «надконцептуальной» позиции. Мы хотим, прежде всего, восстановить из сложной психологической системы одного из выдающихся мыслителей XX века главную линию и основное методологическое звено его исследований. Безусловно, в этом анализе будут представлены и элементы интерпретации с «внутриконцептуальной» позиции – в силу ряда причин система взглядов Выготского не может считаться завершенной. Наконец, трудно требовать от любого исследования, чтобы в нем отсутствовало влияние собственных взглядов автора [5] Когда известного русского историка, профессора Московского университета Т.Н.Грановского обвинили в том, что история служит ему только для высказывания своего воззрения, он отвечал оппонентам: «Это отчасти справедливо, я имею убеждения и провожу их в моих чтениях; если б я не имел их, я не вышел бы публично перед вами для того, чтобы рассказывать, более или менее занимательно, ряд событий» (см.: Герцен, 1969, с. 464).
, его теоретических построений. Более того, такое требование абсурдно – одним из критериев научности является оригинальность излагаемого. Поэтому нельзя исключить из данной работы моменты «межконцептуального» анализа. Однако, в первую очередь, повторю, в ее основании – надконцептуальный анализ.
В этой связи можно вспомнить слова Г.Г.Шпета, сказанные по поводу метода, который он использует, анализируя теорию Гумбольдта. Шпет, по его собственному утверждению, «ищет только уразумения смысла высказанных Гумбольдтом идей и диалектического истолкования их, сперва в общем идейном контексте его времени (включающем в себя, само собой разумеется, как составную часть и всю предшествующую идейную историю), а затем и последующего времени, вплоть до определения места его идей в современном научно-философском мышлении… Выводы интерпретации здесь могут и должны идти дальше того, что explicite заявлено самим автором, они могут даже вступить в видимое противоречие с открытыми заявлениями автора, но их оценка и критика может и должна иметь в виду только одно: признание внутренней плодоносности или пустоты самих идей и чисто логическую возможность интерпретативных выводов» (Шпет, 1996, с. 74).
Похожий метод применял А.Ф.Лосев, исследуя систему философских воззрений Платона. Вот как он излагал построение своего метода: «Мы должны рассмотреть каждый диалог Платона в отдельности и относительно каждого диалога решить вопрос: что он дает в смысле учения об идеях? А этот вопрос в свою очередь связывается с другими вопросами: в каком отношении, в каком логическом отношении этот результат данного диалога стоит к результатам всякого другого диалога? Ясно, что мы сразу же наталкиваемся на необходимость какого-то сравнения этих результатов и, след., какой-то их классификации. Эта классификация, конечно, не должна быть чисто формальной. Мы должны все время помнить, что перед нами – живое философствование живого человека и что, след., ему принципиально свойственен какой-то единый одухотворяющий центр, от которого и расходятся лучи – разной силы и разного смысла – по разным направлениям. Строго говоря, это уже не будет никакой «классификацией», ибо всякая классификация неизбежно статична и формальна. Но зато это было органической диалектикой философского развития Платона, органической диалектикой его системы. Мы изучаем каждую мысль Платона отдельно; смотрим, как оценивает ее тот или иной исследователь; объединяем эту мысль с другой мыслью; смотрим, какой из прочих мыслей Платона она больше соответствует, получается ли что-нибудь целое из объединения разных мыслей или не получается, и если получается, то какое именно целое, с каким смыслом, значением и структурой» (Лосев, 1993, с. 290–291).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: