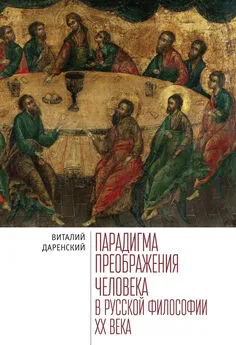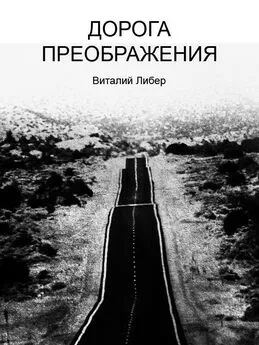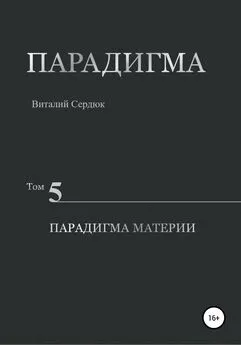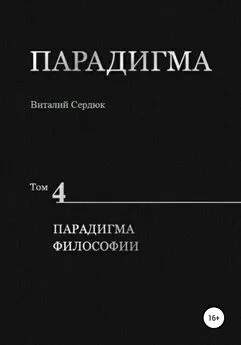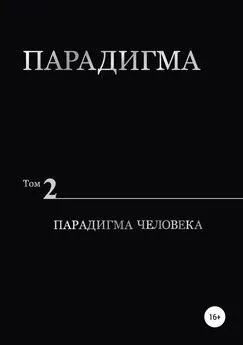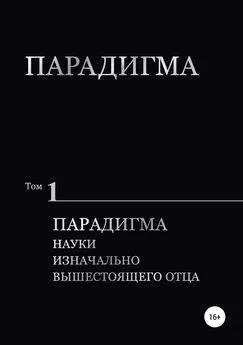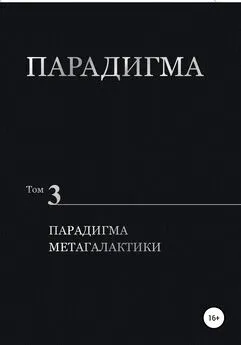Виталий Даренский - Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века
- Название:Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-907030-14-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Даренский - Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века краткое содержание
Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Императив преображения является тем философским императивом, который в максимальной степени вносит этот абсолютный смысловой горизонт «внутрь» самой философии – делая ее имманентно релегиозной, а не «религиозной» только в смысле определенного «мировоззрения» мыслителя. «Религиозность» философии следует понимать не доктринально, а имманентно – как особый ражим и стиль мысли, устремленной к само-преображению самого мыслящего. Такая имманентная религиозность философии вскрывает самую глубокую сущностную структуру самой субъектности – ее определяемость через «свое-другое» – т. е. через тот уже преображенный образ, к которому устремлено мыслящее «Я». Преображение есть « энтелехия » Я.
Последним из значительных философов Запада об этом писал П. Рикёр в книге «Я-сам как другой» (Soi-meme comme un autre): «Инаковость, которая не является – или является не только… инаковостью и которая может составлять саму самость. Soi-meme comme un autre с самого начала имеет в виду, что самость самого себя подразумевает инаковость в столь глубинной степени, что одну невозможно помыслить без другой, что одна, скорее, переходит в другую, если говорить на языке Гегеля. С “как” нам бы хотелось связать сильное значение, не только сравнения – самого себя, подобного другому, – но еще и импликацию: самого себя в качестве… другого» [5] Рикёр П. Я-сам как другой / Пер. с франц. – М, 2008. С. 18.
. И философия ценна лишь постольку, поскольку является «инструментом» преображения «самости».
«Философия» в своем изначальном, древнегреческом смысле – это исчерпывание содержания мирообразных идей в предельной выраженности, «изваянности» словесной формы. Поскольку в ее основании лежит агон – соревнование – у кого это лучше получится, то возникает принцип инноваций – конструирования новых методов, категорий и стилей мысли. Сущностной, «энтелехийной» интенцией философствования – со времен его возникновения как автономной сферы культурной деятельности до «неклассических» направлений философии XX века – всегда был поиск истинной, подлинной реальности в отличие от неподлинной, а вместе с тем и принципов их различения. Собственно, именно это особое умение различать «истинную сущность» любой предметности мысли от ее неподлинности, одной лишь «внешней видимости», и получило название «философского разума». Философия есть такой способ мышления, который постоянно открывает человеку Иное в символическом смысле – т. е. неизбывную инаковость самого бытия , которое способно всегда открываться нам по-новому, иначе. Поэтому самой предельной глубиной само-проникновения исторически первого – античного – философского разума была диалектика Иного в «Пармениде». В этом контексте философия представляет собой разновидность экспериментального знания , – однако «эксперимент» здесь совсем иного типа, чем в науке. Если в науке предмет эксперимента конституирован как совокупность объектов, то в философии, наоборот, предметом экспериментирования становятся именно те измерения моего собственного бытия и бытия Универсума, которые принципиально не могут быть объективируемыми, но составляют базовые смысловые предпосылки понимания, а иногда и самого восприятия любой предметности.
Целью этой книги является исследование этой изначальной и базовой человекосозидающей функции философии, совпадающей с тем, что можно назвать ее «сущностью». Для такой работы, естественно, может быть выбран любой материал по усмотрению автора. Русская философия XX века выбрана здесь не только в силу исследовательских интересов автора, но и потому, что именно этот материал представляется очень подходящим для данной задачи в силу специфики самой русского способа философствования, особенно ярко являющей «антропогенный» аспект философского познания. В свою очередь, среди почти необозримого поля текстов русской философской традиции для специального исследования выбраны такие, которые репрезентируют ее «крайние» направления – от ортодоксально-православных мыслителей до творческих представителей советского марксизма – с той целью, чтобы показать причастность столь контроверсивных типов философии к одной и той же русской «парадигме преображения человека». Исследованию текстов русской философии предшествуют анализ специфики философского мышления и его укорененности в дофилософских способах постижения Бытия, поскольку данная книга – это антропологическое исследование специфики русской философии , а через нее – и философии как таковой. В XX веке именно русская философия, по нашему убеждению, в наибольшей степени сохранила изначальную суть, пафос и смысл философии как способа мысли.
Феномен русской философии к настоящему времени радикально меняет свой исторический смысл. От понимания русской философии просто как «самобытной», свойственного для длительного исторического периода от середины XIX в. до конца XX века, в настоящее время происходит переход к ее пониманию как «нового начала» философии как таковой – после того, как на Западе было объявлено о «смерти философии» как свершившемся факте.
Россия, помимо прочих своих исторических подвигов, совершила еще и подвиг философский – начав традицию пост-оксидентальной философии еще тогда, когда западная философия была на пике своего расцвета и глобальная экспансия Запада, разрушающая национальные культуры как таковые, едва только началась. Рождение русской философии совпало по времени с началом метафизической самокритики Запада в культуре Романтизма – последней культуре «большого стиля» – и поэтому у многих возникает иллюзия того, что «новое начало» в России было тоже каким-то «заимствованием». Дальнейший ход истории показал, что это не так, и что свой внутренний источник «нового начала» в России не только не иссяк, но еще более актуализировался. И чем большая дистанция нас отделяет от первой половины XIX века, тем яснее становится, например, тот факт, что главное значение того, что у нас принято называть «немецкой классической философией» состоит не в ней самой (давно уже мало кому интересной и на самом Западе и только у нас по-прежнему считающейся «классикой»), но именно в том, что она стала интеллектуальным Вызовом, породившим русский Ответ – наше «другое начало» (В Бибихин).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: